 –Ф–Ю–Э–Х–¶–Ъ–Ш–Щ –Я–†–Ю–Х–Ъ–Ґ
–Ф–Ю–Э–Х–¶–Ъ–Ш–Щ –Я–†–Ю–Х–Ъ–Ґ
|
–Э–µ –£–Ї—А–∞–Є–љ–∞ –Є –љ–µ –†—Г—Б—М - –С–Њ—О—Б—М, –Ф–Њ–љ–±–∞—Б—Б, —В–µ–±—П - –±–Њ—О—Б—М... –Ш–Э–Ґ–Х–Ы–Ы–Х–Ъ–Ґ–£–Р–Ы–ђ–Э–Ю-–•–£–Ф–Ю–Ц–Х–°–Ґ–Т–Х–Э–Э–Ђ–Щ –Ц–£–†–Э–Р–Ы "–Ф–Ш–Ъ–Ю–Х –Я–Ю–Ы–Х. –Ф–Ю–Э–Х–¶–Ъ–Ш–Щ –Я–†–Ю–Х–Ъ–Ґ" |
|
|
–Я–Њ–ї–µ –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л—Е –њ–Њ–Є—Б–Ї–Њ–≤ –Є –љ–∞—Е–Њ–і–Њ–Ї. –°—В–Є—Е–Є –Є –њ—А–Њ–Ј–∞. –Ъ—А–Є—В–Є–Ї–∞ –Є –Љ–µ—В–∞–Ї—А–Є—В–Є–Ї–∞. –Ю–±–Ј–Њ—А—Л –Є –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П. –†–µ—Д–ї–µ–Ї—Б–Є–Є –Є –Љ–µ–і–Є—В–∞—Ж–Є–Є. –•—А–Њ–љ–Є–Ї–∞. –Р—А—Е–Є–≤. –У–∞–ї–µ—А–µ—П. –Ш–љ—В–µ—А-–Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В—Л. –Я–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —А—Г–ї–µ—В–Ї–∞. –Я—А–Є–Ї–Њ–ї—Л. –Я–Є—Б—М–Љ–∞. –Ъ–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–Є. –Ф–љ–µ–≤–љ–Є–Ї —Д–Є–ї–Њ–ї–Њ–≥–∞. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П —З–µ—В–≤–µ—А–≥, 19 —Д–µ–≤—А–∞–ї¬§, 2026 –≥–Њ–і |
 |
|
| –У–ї–∞–≤–љ–∞—П | –Ф–Њ–±–∞–≤–Є—В—М –≤ –Є–Ј–±—А–∞–љ–љ–Њ–µ | –°–і–µ–ї–∞—В—М —Б—В–∞—А—В–Њ–≤–Њ–є | –°—В–∞—В–Є—Б—В–Є–Ї–∞ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞ | ||
| –Я–Ю–Ы–Х –Т—Л–њ—Г—Б–Ї–Є –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞ –Ы–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–є –Ї–∞—В–∞–ї–Њ–≥ –Ч–∞–Љ–µ—В–Ї–Є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –†–µ—Д–µ—А–µ–љ–і—Г–Љ –С–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–∞  –Я–Ю–Ш–°–Ъ–Ш –†–∞—Б—И–Є—А–µ–љ–љ—Л–є –њ–Њ–Є—Б–Ї –°—В—А—Г–Ї—В—Г—А–∞ –Р–≤—В–Њ—А—Л –У–µ—А–Њ–Є –У–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П  –Э–Р–•–Ю–Ф–Ъ–Ш –Р–≤—В–Њ—А—Л –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ –Ъ—В–Њ —А—П–і–Њ–Љ –Р—Д–Є—И–∞ |
–Ь—Л –љ–µ –Ј–љ–∞–µ–Љ –і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ–Њ, –Ї—В–Њ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї «–Ш–ї–Є–∞–і—Г», «–У–∞–Љ–ї–µ—В–∞», «–°–ї–Њ–≤–Њ –Њ –њ–Њ–ї–Ї—Г –Ш–≥–Њ—А–µ–≤–µ», «–Ґ–Є—Е–Є–є –Ф–Њ–љ»… - –Є —З—В–Њ? –Э–∞—И–µ –љ–µ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –Љ–µ—И–∞–µ—В –љ–∞—И–µ–Љ—Г –Ј–љ–∞–љ–Є—О? –Э–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В! –Э–Є—З–µ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–∞–і—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ, –Ј–∞–Ї—Г–ї–Є—Б–љ–Њ–≥–Њ. –Э–µ –љ–∞–і–Њ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М –≤–Њ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Є –њ—А–Њ–µ—Ж–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –љ–∞ –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–µ–є –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В—М –∞–≤—В–Њ—А–∞ – —З–µ—А—В—Л —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞, –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –ґ–Є–Ј–љ–Є, –Њ–±–Њ—А–Њ—В—Л —Б—Г–і—М–±—Л. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–µ–Ї—Б—В –Є –љ–Є—З–µ–≥–Њ, –Ї—А–Њ–Љ–µ —В–µ–Ї—Б—В–∞. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –µ–≥–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —Б–Љ—Л—Б–ї—Л –Є —В–∞–є–љ—Л. –Э–Њ –Ј–љ–∞–µ–Љ –ї–Є –Љ—Л, –Ї—В–Њ –Є—Б—В–Є–љ–љ—Л–є –∞–≤—В–Њ—А «–С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ъ–Њ–Љ–µ–і–Є–Є», «–§–∞—Г—Б—В–∞», «–Ь–µ—А—В–≤—Л—Е –і—Г—И», «–Ь–∞—Б—В–µ—А–∞ –Є –Ь–∞—А–≥–∞—А–Є—В—Л»?.. –Ь—Л –Ј–љ–∞–µ–Љ, –Ї—В–Њ –њ–Њ—А–Њ–і–Є–ї —Н—В–Є —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П, –±—Л–ї –Є–Љ–Є —З—А–µ–≤–∞—В, –Њ–±–ї–µ–Ї –Є—Е –≤ —Б–≤–Њ–Є –Љ—Л—Б–ї–Є –Є —З—Г–≤—Б—В–≤–∞, –љ–Њ –Ї—В–Њ –њ–Њ—Б–µ—П–ї —Н—В–Є –Ј–∞–Љ—Л—Б–ї—Л? –°–њ—А–Њ—Б–Є–Љ –Є–љ–∞—З–µ: –Ї—В–Њ –∞–≤—В–Њ—А —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞? –Ь–∞—В—М? –Ю—В–µ—Ж? –Ю–±–∞ —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—П? –Ш–ї–Є —Б–∞–Љ —А–µ–±–µ–љ–Њ–Ї?.. –Ґ–µ–Њ—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –љ–µ—П—Б–љ–Њ—Б—В—М –≤ —Н—В–Њ–Љ –љ–∞–Є–≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–µ–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–µ, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л, –љ–Є—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ –њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤—Г–µ—В –µ–µ –љ–µ–њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–∞—О—Й–µ–Љ—Г—Б—П —А–∞–Ј–Љ–љ–Њ–ґ–µ–љ–Є—О. –Ю—В–≤–µ—В—Л, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –µ—Б—В—М, –Є —А–∞–Ј–љ—Л–µ –Њ—В–≤–µ—В—Л, –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–Є—Б–Ї–ї—О—З–∞—О—Й–Є–µ, –љ–Њ —Б –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ–Њ—А –Њ–љ–Є —Г–ґ–µ –љ–µ –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В—Г—О—В, –і–Њ–Є—Б–Ї–Є–≤–∞—П—Б—М –Є—Б—В–Є–љ—Л, –∞ –Љ–Є—А–љ–Њ —Г–ґ–Є–≤–∞—О—В—Б—П –≤ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ —И–Є–Ј–Њ—Д—А–µ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є. «–Р–≤—В–Њ—А —Г–Љ–µ—А» - –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В —В–µ–Њ—А–µ—В–Є–Ї, –љ–Њ —Г–Љ–µ—А—И–Є–є –∞–≤—В–Њ—А, –≥–ї—П–љ—Ж–µ–≤–Њ —Г–ї—Л–±–∞—П—Б—М, –њ—А–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В –њ–Њ–Ј–і—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, –≥–Њ–љ–Њ—А–∞—А—Л, –њ—А–µ–Љ–Є–Є, —А–∞–Ј–і–∞–µ—В –Є–љ—В–µ—А–≤—М—О –Є –њ–Є—И–µ—В –љ–Њ–≤—Л–µ –Ї–љ–Є–≥–Є. –Р –Ї–∞–Ї –±—Л—В—М —З–Є—В–∞—В–µ–ї—О, –µ—Б–ї–Є —Г –љ–µ–≥–Њ —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Л–µ –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–Є—П? –Х—Б–ї–Є –Њ–љ —Е–Њ—З–µ—В –љ–µ —А–∞–Ј–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є–є –Є –љ–µ –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є, –∞ – —Б–Љ—Л—Б–ї–∞? –Я–Њ–Љ–Њ–ґ–µ—В –ї–Є –µ–Љ—Г –ї–Є—З–љ–Њ–µ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Б—В–≤–Њ —Б –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–Љ –Є–ї–Є –Њ—В–≤–ї–µ—З–µ—В (—Г–≤–ї–µ—З–µ—В, —А–∞–Ј–≤–ї–µ—З–µ—В…) –Ї—Г–і–∞-—В–Њ –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –Њ—В —Б—Г—В–Є? –Я—А–Њ—З–Є—В–∞–µ—В –ї–Є –Њ–љ –≤ –ї–Є—Ж–µ, —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–µ, –ґ–Є–Ј–љ–Є, —Б—Г–і—М–±–µ –њ–Є—И—Г—Й–µ–≥–Њ –љ–µ–Ї–Є–є –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М–љ—Л–є —В–µ–Ї—Б—В, –Њ–±—К—П—Б–љ—П—О—Й–Є–є –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–є, –Є–ї–Є –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В, –ґ–Є–Ј–љ—М – —Н—В–Њ –Є –µ—Б—В—М –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є —В–µ–Ї—Б—В, –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ–Є–Ї, –Њ–±—К—П—Б–љ—П–µ–Љ—Л–є –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–Љ? –Ш–ї–Є, –њ—Л—В–∞—П—Б—М —А–∞—Б–њ–Њ–Ј–љ–∞—В—М –∞–≤—В–Њ—А–∞ –≤ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–µ, –љ–µ —Б—В–∞–љ–µ—В –ї–Є –Њ–љ, –Ї–∞–Ї —В–∞ –±–∞–±–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –љ–µ –љ—А–∞–≤—П—В—Б—П —В–µ–ї–µ–њ–µ—А–µ–і–∞—З–Є, –њ—А–µ–і—К—П–≤–ї—П—В—М –њ—А–µ—В–µ–љ–Ј–Є–Є –Ї —В–µ–ї–µ–≤–Є–Ј–Њ—А—Г? –Я—А–Є–і—Г–Љ–∞—В—М —В–µ–Њ—А–Є—О –љ–µ—Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ –њ–µ—А–µ–Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —Г–ґ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ –≤—Л–≤–µ—Б—В–Є –Є–Ј –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П (–ї—Г—З—И–µ –Є–Ј –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ – –≤—Л—И–µ –≥–∞—А–∞–љ—В–Є—П –±–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є). –Ь–Њ–ґ–љ–Њ, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –њ–Њ–њ—А–Њ–±–Њ–≤–∞—В—М —З—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –љ–∞–њ–Є—Б–∞—В—М —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г –Є –њ—А–Є—Б–ї—Г—И–∞—В—М—Б—П –Ї —Б–µ–±–µ… –Э–Њ –Ї–∞–Ї –Њ–љ–Њ –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ? –Х—Б–ї–Є –±—Л —Н—В–Њ –±—Л–ї–∞ –љ–µ –≥—Г–Љ–∞–љ–Є—В–∞—А–љ–∞—П –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞, –∞ –Ї–∞–Ї–∞—П-–љ–Є–±—Г–і—М —Д–Є–Ј–Є–Ї–Њ-—В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П, —В–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М —Н–Ї—Б–њ–µ—А–Є–Љ–µ–љ—В –Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ—Л–є —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В. –Э–Њ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–Њ – –∞–љ–Њ–Љ–∞–ї–Є—П, —З—Г–і–Њ… –Ъ–∞–Ї –µ–≥–Њ –Є–Ј—Г—З–∞—В—М – —Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П –љ–Њ—А–Љ—Л –Є–ї–Є –Ї–∞–Ї? –Р –≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –∞–≤—В–Њ—А—Л –і–∞—А—П—В —Б–≤–Њ–Є –Ї–љ–Є–≥–Є – —З–µ–Љ —Н—В–Њ –љ–µ —Н–Ї—Б–њ–µ—А–Є–Љ–µ–љ—В? –І–Є—В–∞—П, —В—Л –љ–µ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —Б–ї–Є—З–∞–µ—И—М, –њ—Л—В–∞—П—Б—М —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–Є—В—М, –і–≤–∞ –Њ–±—А–∞–Ј–∞ –∞–≤—В–Њ—А–∞, –≤–љ–µ—И–љ–Є–є –Є –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–є – —В–Њ—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ –≤ —В–µ–ї–Њ, –Є —В–Њ—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ –≤ —В–µ–Ї—Б—В. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В, —З—В–Њ –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л —А–∞–Ј–≥–∞–і–∞—В—М –Њ–і–љ—Г –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е –≤–µ–ї–Є–Ї–Є—Е –Ј–∞–≥–∞–і–Њ–Ї –±—Л—В–Є—П – —Б–Њ-–±—Л—В–Є–µ —В–≤–Њ—А—Ж–∞ –Є —В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П – –љ–∞–і–Њ –њ—А–Њ—Б—В–Њ —З–Є—В–∞—В—М –њ–Њ–і–∞—А–µ–љ–љ—Л–µ –Ї–љ–Є–≥–Є? –Я–Њ—З–µ–Љ—Г –ґ–µ –Љ—Л —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ –і–µ–ї–∞–µ–Љ? –Т —З–µ–Љ –њ—А–Є—З–Є–љ–∞? –Э–µ–Ї–Њ–≥–і–∞. * * *–І–Є—В–∞—В—М –љ–µ–Ї–Њ–≥–і–∞. –Ф–∞–ґ–µ –≤ –њ—А–Њ–≤–Є–љ—Ж–Є–Є. –Ф–∞–ґ–µ –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ —А–∞–±–Њ—З–Є–є –і–µ–љ—М –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–µ–љ – –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –µ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞–µ—В –њ–Њ—З—В–∞, –љ–Њ–≤–Њ—Б—В–Є, —Б–µ–Љ—М—П. –І–Є—В–∞—В—М –љ–µ–Ї–Њ–≥–і–∞, –Є —Н—В–Њ –Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д–∞. –Ф–ї—П –Ї–Њ–≥–Њ —В–Њ–≥–і–∞ –њ–Є—И—Г—В—Б—П —Н—В–Є –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ—Л –Ї–љ–Є–≥, –Љ–Є–ї–ї–Є–∞—А–і—Л —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж, —Б—В—А–Њ–Ї? –•–Њ—А–Њ—И–Њ, –њ—Г—Б—В—М –љ–µ –≤—Б–µ —Б—В–Њ–Є—В —З–Є—В–∞—В—М, –∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ –і–∞–ґ–µ –≤—А–µ–і–љ–Њ, –љ–Њ —З—В–Њ-—В–Њ –ґ–µ –Є–Ј –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—З–Є—В–∞—В—М –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Ј–∞–њ–Є—Б–Ї—Г, –≥–і–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ —В–≤–Њ–є –і–Њ–Љ –≥–Њ—А–Є—В. –Т–µ–ї–Є–Ї–∞—П –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–∞ – –Њ–± —Н—В–Њ–Љ. –Э–Њ —З–Є—В–∞—В—М –љ–µ–Ї–Њ–≥–і–∞. –Р —В–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ–њ–∞–і–∞–µ—В –≤ —А—Г–Ї–Є, –љ–∞ –≥–ї–∞–Ј–∞, –љ–µ –Њ —В–Њ–Љ. –Р –Ї—В–Њ –њ–Њ–і—Б–Ї–∞–ґ–µ—В, —З—В–Њ —З–Є—В–∞—В—М? –Х—Б—В—М –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –Ї—А–Є—В–Є–Ї–Є, –Њ–љ–Є –≤ –Ї—Г—А—Б–µ. –Э–Њ –љ—Г–ґ–љ–Њ –µ—Й–µ –≤—Л–±—А–∞—В—М —Б—А–µ–і–Є –љ–Є—Е, –Ї–Њ–Љ—Г —Б—В–Њ–Є—В –≤–µ—А–Є—В—М. –Р –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ, –Ї—В–Њ –Є–Ј –љ–Є—Е —Г–Ї–∞–ґ–µ—В –Ї–љ–Є–≥—Г –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –і–ї—П —В–µ–±—П? –Ь–Њ–ґ–µ—В, –≤—А–µ–Љ—П –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л –њ—А–Њ—И–ї–Њ? –С—Л–ї–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –µ–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Р—Г–і–Є–Њ, –≤–Є–і–µ–Њ – —Н—В–Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –Ї –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —Д–Њ—А–Љ–∞–Љ –≤–Њ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є—П, –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ —Б–ї—Г—Е –Є –љ–∞ –Ј—А–µ–љ–Є–µ, –∞ —Б–ї–Њ–≤–µ—Б–љ–Њ—Б—В—М –≤—Б–µ –±–Њ–ї–µ–µ –≤—Л–≥–ї—П–і–Є—В –∞—А—Е–∞–Є–Ї–Њ–є – –Ї–∞–Ї –±—Л–ї–Є–љ–∞ –Є–ї–Є –Њ–њ–µ—А–∞. –Ы–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї–∞—Б—М –і–ї—П –ї—О–і–µ–є, —Г –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±—Л–ї–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Є —В–µ—А–њ–µ–љ–Є–µ —З–Є—В–∞—В—М. –Ґ–µ–њ–µ—А—М —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –љ–µ—В, –Њ–љ–Њ –Ј–∞–љ—П—В–Њ –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–µ–є –Є –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ї–∞—Ж–Є–µ–є. –≠—В–Њ —В–Њ–ґ–µ —Б–ї–Њ–≤–∞, –љ–Њ – –љ–µ —Б–ї–Њ–≤–µ—Б–љ–Њ—Б—В—М. –Т –њ—А–Њ–≤–Є–љ—Ж–Є–Є –ї–µ–≥—З–µ, —Б–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–µ–µ. –Т –њ—А–Њ–≤–Є–љ—Ж–Є–Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Л –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і—П—В –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–µ–µ, –Є –Ј–і–µ—Б—М –ї–µ–≥—З–µ —Г–µ–і–Є–љ–Є—В—М—Б—П —Б –Ї–љ–Є–≥–Њ–є. –•–Њ—А–Њ—И–∞—П –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–∞ – –і–ї—П –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Є—Е, —Е–Њ—В—П —Н—В–Є—Е –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ. –•–Њ—А–Њ—И–∞—П –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–∞ – —Н—В–Њ –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б–Ї–Є–є –Њ—А–і–µ–љ –≤–µ—А—Г—О—Й–Є—Е –≤ —Б–ї–Њ–≤–Њ. –°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є—Е, —Г–µ–і–Є–љ–µ–љ–љ—Л—Е –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–љ—Л—Е –Ї–µ–ї—М—П—Е –Є –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–љ—Л—Е —З–Є—В–∞–µ–Љ–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–Њ–є? –Ъ–Њ–≥–і–∞-–љ–Є–±—Г–і—М —Г–Ј–љ–∞–µ–Љ. –І—В–µ–љ–Є–µ – –і—Г—Е–Њ–≤–љ–∞—П –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В—М, –Ї–∞–Ї –Є –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В—М –≤ –њ–Є—Й–µ. –Э–Њ —Б –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ–Њ—А —Н—В–Њ –Є –і–Њ–ї–≥ – –њ–µ—А–µ–і —Б–≤–Њ–µ–є –і—Г—И–Њ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Г–Љ—А–µ—В, –µ—Б–ї–Є –љ–µ –±—Г–і–µ—В —Б–Њ—А–∞–і–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –Є —Б–Њ—Б—В—А–∞–і–∞—В—М, –Є –њ–µ—А–µ–і —Б–∞–Љ–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–Њ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –ґ–Є–≤–∞, –њ–Њ–Ї–∞ —З–Є—В–∞–µ—В—Б—П. –Ш –≤–Њ—В —П —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞—О –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж-—В–Њ, —З—В–Њ –і–∞–≤–љ–Њ —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї—Б—П —Б–і–µ–ї–∞—В—М: –Њ—В–Ї–ї—О—З–∞—О —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ, —В–µ–ї–µ–≤–Є–Ј–Њ—А, –Є–љ—В–µ—А–љ–µ—В – –Є –±–µ—А—Г —Б –њ–Њ–ї–Ї–Є –Ї–љ–Є–≥—Г, –ї—О–±—Г—О – –Ї–∞–Ї–∞—П —Б–Є–ї—М–љ–µ–µ –њ—А–Є—В—П–љ–µ—В –≤–Ј–≥–ї—П–і. –Э–∞ —Н—В–Њ–є –њ–Њ–ї–Ї–µ –њ–Њ–і–∞—А–µ–љ–љ—Л–µ –Ї–љ–Є–≥–Є. –Ч–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Б—В–≤–Њ —Б –∞–≤—В–Њ—А–Њ–Љ, –і–∞–ґ–µ –Ї—А–∞—В–Ї–Њ–µ, –Њ–±–µ—А—В—Л–≤–∞–µ—В –Ї–љ–Є–≥—Г –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П–Љ–Є – –Њ–љ–Є –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—О—В –љ–∞—Б—В—А–Њ–Є—В—М—Б—П –љ–∞ —З—В–µ–љ–Є–µ, –љ–Њ –Љ–µ—И–∞—О—В —З–Є—В–∞—В—М. –Э–∞–і–Њ —Б–љ—П—В—М –Њ–±–µ—А—В–Ї—Г, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є –∞–≤—В–Њ—А – —В–Њ—В, –Ї—В–Њ –≤–љ—Г—В—А–Є –Ї–љ–Є–≥–Є, –∞ –љ–µ —В–Њ—В, –Ї—В–Њ –µ–µ —В–µ–±–µ –њ–Њ–і–∞—А–Є–ї. –Э–Њ —Н—В–Њ —Г–ґ–µ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ. –Ъ–љ–Є–≥–∞ – –Ї–∞–Ї –≤ –Њ–±–ї–∞–Ї–µ, —Б–≤–µ—В–Є—В—Б—П –Є –Љ–µ—А—Ж–∞–µ—В, —П–≤–ї—П—П –∞—Г—А—Г —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї—П, –Њ–љ–∞ –Ј–∞—А—П–ґ–µ–љ–∞ –µ–≥–Њ —Н–љ–µ—А–≥–µ—В–Є–Ї–Њ–є, –љ–∞—Б—Л—Й–µ–љ–∞ –µ–≥–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ–Љ. –Ч–љ–∞—З–Є—В, —З–Є—В–∞—В—М –Ї–љ–Є–≥—Г – –љ–µ —В–Њ –ґ–µ —Б–∞–Љ–Њ–µ, —З—В–Њ —З–Є—В–∞—В—М —В–µ–Ї—Б—В. –≠—В–Њ –і–≤–Њ–є–љ–Њ–µ —З—В–µ–љ–Є–µ – –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—Б—П —Б–Њ–≤–Љ–µ—Й–∞—В—М –і–≤–∞ –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ—В–Њ–Ї–∞, –і–≤–µ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –Є –µ—Б–ї–Є –Њ–љ–Є —Б–Њ–≤–њ–∞–і—Г—В, —В–Њ, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, —В–Њ–≥–і–∞ –Ї–љ–Є–≥–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В—Б—П… –І–Є—В–∞—В—М –Ї–љ–Є–≥—Г –≤—Б—О, —Б—А–∞–Ј—Г –Є –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞, –љ–µ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ –µ–µ –Њ—В—Б—В–∞–≤–Є—В—М, –Ї–∞–Ї –љ–µ–і–Њ–њ–Є—В—Л–є –±–Њ–Ї–∞–ї. –С—Л–≤–∞–µ—В, –≤–Ї—Г—Б —Ж–µ–љ–љ–µ–µ —Б–Љ—Л—Б–ї–∞. –Ъ —Е–Њ—А–Њ—И–Є–Љ –Ї–љ–Є–≥–∞–Љ, —В.–µ. –Ї —В–∞–Ї–Є–Љ, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є —Е–Њ—А–Њ—И–Њ, —Е–Њ—З–µ—В—Б—П –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—В—М—Б—П, –Ї–∞–Ї –Ї –і–Њ–±—А—Л–Љ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–Љ. –†–∞—Б–Ї—А—Л–≤–∞—В—М –љ–∞ –ї—О–±–Њ–є —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж–µ, –Њ–Ї—Г–љ–∞—В—М—Б—П –≤ –Є—Е –≥–Є–њ–љ–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ, –њ–µ—А–µ–љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П, —В–µ–Ї—Г—Й–µ–µ –Ї—Г–і–∞-—В–Њ –≤–≥–ї—Г–±—М –Є —Г–љ–Њ—Б—П—Й–µ–µ —В–µ–±—П –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –њ–Њ—В–Њ–Ї–µ. –І–Є—В–∞—В—М –љ–µ–Ї–Њ–≥–і–∞, –љ–Њ –љ–µ —З–Є—В–∞—В—М –љ–µ–ї—М–Ј—П. –Ъ–љ–Є–≥–∞, –њ—А–Є—И–µ–і—И–∞—П –Ї —В–µ–±–µ, –њ—А–Є—И–ї–∞ –љ–µ –Ј—А—П. –Ю–љ–∞ –љ–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –љ–µ –Њ–±–Є–і–Є—В—Б—П, –љ–µ —Б—В–∞–љ–µ—В —В–≤–Њ–Є–Љ –љ–µ–і—А—Г–≥–Њ–Љ, –µ—Б–ї–Є —В—Л –µ–µ –љ–µ –њ—Г—Б—В–Є—И—М –≤ —Б–µ–±—П, –љ–Њ –Є –і—А—Г–≥–Њ–Љ –љ–µ —Б—В–∞–љ–µ—В. –Э–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ–є–і–µ—В, –љ–Њ –≤ —В–Њ–Љ-—В–Њ –Є –±–µ–і–∞, —З—В–Њ –љ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ–є–і–µ—В. –¶–µ–њ—М –љ–µ –Ј–∞–Љ–Ї–љ–µ—В—Б—П, —Б–≤–µ—В –љ–µ –≤–Ї–ї—О—З–Є—В—Б—П, —Б–Љ—Л—Б–ї –љ–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–µ—В. –Ю—В–Ї—А—Л–≤–∞—О –љ–∞—Г–≥–∞–і, –Њ–Ї—Г–љ–∞—О—Б—М, –≤—Л—Е–Њ–ґ—Г –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥, –њ–µ—А–µ–≤–Њ–ґ—Г –і—Г—Е, –њ—М—О –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–Љ–Є –≥–ї–Њ—В–Ї–∞–Љ–Є… –•–Њ—А–Њ—И–Њ!
–Ф–Ђ–Ь –Э–Р–Ф –Т–Ю–Ф–Ю–Щ–Ш–Ј –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Ъ—С–ї—М–љ–∞ –њ—А–Є—И–ї–Є –і–≤–µ –±–∞–љ–і–µ—А–Њ–ї–Є – –Њ—В –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –Я–∞—А—Й–Є–Ї–Њ–≤–∞ –Є –Њ—В –Ф–µ–Љ—М—П–љ–∞ –§–∞–љ—И–µ–ї—П. –†–∞—Б–Ї—А—Л–≤–∞—П, –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–Њ—Б—М: «–Ш –Ъ–µ–ї—М–љ–∞ –і—Л–Љ–љ—Л–µ –≥—А–Њ–Љ–∞–і—Л…» –Я—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М, –ґ–Є–≤—П –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ —Б–Ї–Є—Д–Њ–≤. –•–Њ—В—П —В—Г—В –ґ–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–∞ –Є –і—А—Г–≥–∞—П –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–∞—Ж–Є—П: –Ї–µ–ї—М–љ—Б–Ї–∞—П –≤–Њ–і–∞ – –Њ–і–µ–Ї–Њ–ї–Њ–љ, au de Cologne. –°–Њ–µ–і–Є–љ–Є–≤—И–Є—Б—М, –Њ–љ–Є –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є –љ–µ—З—В–Њ —В—П–ґ–µ–ї–Њ–µ, —А–Њ–Ї–Њ–≤–Њ–µ: Smoke On The Water. –Э–∞—Б—З–µ—В –і—Л–Љ–љ–Њ—Б—В–Є –µ—Й–µ –љ–∞–і–Њ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М, –≥–і–µ –і—Л–Љ–љ–µ–µ, –∞ –≤–Њ—В –љ–∞—Б—З–µ—В –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ—Б—В–Є… –ѓ —Б–ї—Л—И–∞–ї, —З—В–Њ –Ъ—С–ї—М–љ – —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–∞ –њ–Њ—Б—В–Љ–Њ–і–µ—А–љ–Є–Ј–Љ–∞. –Э–µ –Ј–љ–∞—О. –Э–Њ —В–µ–Љ –ї—О–±–Њ–њ—Л—В–љ–µ–µ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М, —З—В–Њ –Њ—В—В—Г–і–∞ –Є—Б—Е–Њ–і–Є—В. –°—В—А–∞—В–Њ–љ–∞–≤—В
–І–µ—А–µ–Ј –і–≤–∞ –≥–Њ–і–∞ —Н—В–Њ—В –ґ–µ —В—А–µ—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Є–Ї –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤ –њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є—В—Б—П – –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ –љ–Є—Е —Б–Њ–±–µ—А—Г—В—Б—П –µ–≥–Њ –і—А—Г–Ј—М—П –≤ –і–µ–љ—М –µ–≥–Њ —Б–Њ—А–Њ–Ї–Њ–≤–Є–љ. –Ь–µ—Б—В–∞ –µ–≥–Њ –њ—А–Њ–±—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П, —Б–ї–∞–≤—Л –Є —Г–Љ–Є—А–∞–љ–Є—П. –Ъ–Њ–µ-—З—В–Њ –Є–Ј –Ј–∞–і—Г–Љ–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є –Њ–±—Б—Г–ґ–і–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –љ–∞–Љ–Є —П –љ–∞—Е–Њ–ґ—Г –≤ —Н—В–Є—Е –њ—А–Є—Б–ї–∞–љ–љ—Л—Е –Ї–љ–Є–≥–∞—Е. –≠—В–Њ –і–µ–ї–∞–µ—В –Є—Е –і–ї—П –Љ–µ–љ—П –љ–µ —В–Њ —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ–љ—П—В–љ–µ–µ, –љ–Њ –Ї–∞–Ї-—В–Њ –њ–Њ-–Њ—Б–Њ–±–Њ–Љ—Г, –њ—А–µ–ї–Њ–Љ–ї–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ–Љ—Л–Љ–Є. –Ь–Њ–ґ–µ—В, –љ–µ–≤–µ—А–љ–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ–Љ—Л–Љ–Є, –њ–Њ-—Б–≤–Њ–µ–Љ—Г. –≠—В–Њ –љ–µ —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї–Є, —Н—В–Њ –Ї–љ–Є–≥–Є. –Ф–ї—П –љ–∞—Б —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Є–∞–ї—М–љ–Њ. –Э–Њ –∞–Ї—Ж–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –Љ—Л —А–∞–Ј–љ–Њ–µ: –Њ–љ – —А–Є—В–Љ, —П – —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М. «–Я–Њ–љ—П—В–Є–µ “–Ї–љ–Є–≥–∞” –њ–Њ–і—А–∞–Ј—Г–Љ–µ–≤–∞–µ—В –≤–µ–і—М –±–Њ–ї–µ–µ —А–Є—В–Љ–Є—З–љ—Г—О –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—О» - –њ–Є—Б–∞–ї –Њ–љ (26.XII.2003); —П –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї: «–Х—Б–ї–Є –≤ –Ї–љ–Є–≥–µ –±—Г–і–µ—В —В–∞–Ї–∞—П —Б–Ї–≤–Њ–Ј–љ–∞—П —Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П —В–Ї–∞–љ—М (= —В–µ–Ї—Б—В), —В–Њ–≥–і–∞ –≤–µ—Б—М –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –ґ–µ—Б—В–Ї–Њ –Є –Ї–Њ–ї–ї–∞–ґ–љ–Њ – –љ–µ —А–∞—Б—Б—Л–њ–ї–µ—В—Б—П» (29.XII.2003).
–Ъ–∞–Ї-—В–Њ –Њ–љ —Б—В–∞–ї —А–∞—Б—Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞—В—М –Љ–µ–љ—П –Њ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–µ —Б—В—А–∞—В–Њ–љ–∞–≤—В–∞–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б—В–Њ–Є—В –≤ –Ф–Њ–љ–µ—Ж–Ї–µ: «–ѓ —Б–Љ—Г—В–љ–Њ –њ–Њ–Љ–љ—О —Б–∞–Љ–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ, –Ј–∞—В–Њ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї – –Њ—З–µ–љ—М —А–µ–Ј–Ї–Њ. –Т 1934 –≥–Њ–і—Г —В—А–Њ–µ – –§–µ–і–Њ—Б–µ–µ–љ–Ї–Њ, –£—Б—Л—Б–Ї–Є–љ –Є –Т–∞—Б–µ–љ–Ї–Њ –њ—Г—Б—В–Є–ї–Є—Б—М –≤ –±–ї–Є–ґ–љ–Є–є –Ї–Њ—Б–Љ–Њ—Б –Њ—В –Ю—Б–Њ–∞–≤–Є–∞—Е–Є–Љ–∞, –њ–Њ–і–љ—П–ї–Є—Б—М –љ–∞ 22 –Ї–Љ –Є –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Є –њ—А–Є –њ—А–Є–Ј–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–Є. –Ъ–∞–Ї –≤—Л—И–ї–Њ, —З—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ –Ф–Њ–љ–µ—Ж–Ї–µ –±—Л–ї —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї —Н—В–Є–Љ –ї—О–і—П–Љ? –Ю–љ–Є –њ—А–Є–Ј–µ–Љ–ї—П–ї–Є—Б—М –≤ –Ф–Њ–љ–±–∞—Б—Б–µ? –ѓ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –Њ–± —Н—В–Њ–є –∞–≤–Є–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—В—А–Є–≥–µ –љ–µ –Ј–љ–∞—О…» –ѓ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї, —З—В–Њ —В–Њ–ґ–µ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –љ–µ –Ј–љ–∞—О, –љ–Њ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ: «–Я–Њ–ї–∞–≥–∞—О, —З—В–Њ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї —В—А–µ–Љ —Б—В—А–∞—В–Њ–љ–∞–≤—В–∞–Љ –±—Л–ї –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –≤ –°—В–∞–ї–Є–љ–Њ –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л –µ–≥–Њ –≤–Є–і–µ–ї —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї –Р–ї–µ—И–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ—В–Њ–Љ —В–∞–Ї –ґ–µ, –Є —В–Њ–ґ–µ —Б –і–≤—Г–Љ—П —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –і—А—Г–Ј—М—П–Љ–Є, –њ—А–Њ—А–≤–µ—В—Б—П –≤ –≤—Л—Б—И–Є–µ —Б—Д–µ—А—Л, –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –љ–∞–њ–Є—И–µ—В –Њ–± —Н—В–Њ–Љ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ. –Э–Њ —З—В–Њ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В – –≤ —Н—В–Њ–Љ, –њ—А–Њ—Д–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ, —Б–Љ—Л—Б–ї–µ – 22 –Ї–Љ? –Я–µ—А–µ–±–Њ—А –≤ –Ї–∞—А—В–Њ—З–љ–Њ–є –Є–≥—А–µ –Є–ї–Є, –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В, –њ–Њ–ї–љ—Л–є –љ–∞–±–Њ—А, –љ–Њ —Г–ґ–µ –≤ –і—А—Г–≥–Њ–є, —Б–∞–Ї—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є–≥—А–µ – –≤ –Ї–∞—А—В–∞—Е –Ґ–∞—А–Њ? –Р –Љ–Њ–ґ–µ—В, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–∞–Ї –Є –±—Л–≤–∞–µ—В: –њ–µ—А–µ–±–Њ—А –љ–∞ –њ—А–Њ—Д–∞–љ–љ–Њ–Љ –њ–ї–∞–љ–µ –і–∞–µ—В –њ–Њ–ї–љ–Њ—В—Г –љ–∞ —Б–∞–Ї—А–∞–ї—М–љ–Њ–Љ?» –°—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ, –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –±—Л–ї–Њ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ («–°–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–µ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ»), —Б–Њ —Б—Б—Л–ї–Ї–Њ–є –≤ –њ—А–Є–Љ–µ—З–∞–љ–Є–Є –љ–∞ –Љ–Њ–µ –љ–µ–≤–µ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ: «–Т–∞—Б–µ–љ–Ї–Њ, –§–µ–і–Њ—Б–µ–µ–љ–Ї–Њ –Є –£—Б—Л—Б–Ї–Є–љ — —В—А–Њ–є–Ї–∞ —Б—В—А–∞—В–Њ–љ–∞–≤—В–Њ–≤, —Г–≤—Л, –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є—Е –њ—А–Є —Б–њ—Г—Б–Ї–µ –≤ 1930-—Е –≥–Њ–і–∞—Е. –Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –Є–Љ —П –љ–∞—И–µ–ї –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ –љ–∞/–≤ –£–Ї—А–∞–Є–љ–µ, –≤ –Ф–Њ–љ–µ—Ж–Ї–µ. –Я–Њ—З–µ–Љ—Г? –Ю—В–Ї—Г–і–∞? –Ю–љ–Є –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Є, –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В, –љ–∞ –£—А–∞–ї–µ. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞–ї –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–Є –Њ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–µ, –љ–Є –Њ–± –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Є–Ј–≤–∞—П–љ–Є–є». –Ґ–Њ–≥–і–∞ –ґ–µ –Њ–љ –Ј–∞–і–∞–ї –µ—Й–µ –Њ–і–Є–љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б, –±–Њ—В–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є: «–Ґ–∞–Љ –ґ–µ, –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞, –љ–Њ, –≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –Є –≤ –і—А—Г–≥–Є—Е –Љ–µ—Б—В–∞—Е, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Њ–Ї–Њ–ї–Њ —В–Њ–є –ґ–µ —И–Ї–Њ–ї—Л –Є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Є–≤–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–њ–Њ—А—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–ї–∞ —Б—А–µ–і–Є –∞–Ї–∞—Ж–Є–є —Б —Ж–Є–Ї–ї–Њ–њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б—В—А—Г—З–Ї–∞–Љ–Є —А–∞—Б—В—Г—В –Ї–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ –љ–µ–Њ–±—Л—З–љ—Л–µ –Ї—Г—Б—В—Л —Б —А–Њ–Ј–Њ–≤—Л–Љ–Є –њ—Г—И–Є—Б—В—Л–Љ–Є –Љ–µ—В—С–ї–Ї–∞–Љ–Є. –ѓ –љ–Є–≥–і–µ –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї —Н—В–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—В–µ–љ–Є—П –Њ—В –Ъ–∞–ї–Є—Д–Њ—А–љ–Є–Є –і–Њ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л…» –Э–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П —Н—В–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—В–µ–љ–Є—П —П —В–Њ–ґ–µ –љ–µ –Ј–љ–∞–ї. –Ь–Њ–ґ–µ—В, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Њ–љ–Њ –Є –љ–µ –≤–Њ—И–ї–Њ –≤ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ. –Э–Њ –Њ–љ–Њ —А–∞—Б—В–µ—В –≤ –љ–µ–Љ, –±–µ–Ј—Л–Љ—П–љ–љ–Њ–µ, –≤–Њ–Ј–ї–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞ —В—А–µ–Љ —Б—В—А–∞—В–Њ–љ–∞–≤—В–∞–Љ. –Ъ–∞–Ї–Є–Љ–Є –±—Л –Є–Ј–Њ—Й—А–µ–љ–љ–Њ-—П–Ј—Л–Ї–Њ–≤—Л–Љ–Є –љ–Є –Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –µ–≥–Њ —Б—В–Є—Е–Є, –Њ–љ–Є —Г–Ї–Њ—А–µ–љ–µ–љ—Л –≤ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —Г–≤–Є–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ.
–Ь–∞—И–∞ –Є –Љ–µ–і–≤–µ–і—М
–° –Ь–∞—И–µ–є —П –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї—Б—П –Ј–і–µ—Б—М, –љ–∞ –і–Њ–љ–µ—Ж–Ї–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ, –≤ –У–Њ—А–ї–Њ–≤–Ї–µ, –Ї—Г–і–∞ –Њ–љ–∞ –њ—А–Є–µ–Ј–ґ–∞–ї–∞ –Ї —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—П–Љ –Љ—Г–ґ–∞. –Р —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –µ–µ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ – «–Ю–±—А—Л–≤–Њ–Ї –њ–Є—Б—М–Љ–∞, –њ–Њ–і–Њ–±—А–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ –У–Њ—А–ї–Њ–≤–Ї–µ –љ–∞ –≥–∞–Ј–Њ–љ–µ –±–ї–Є–Ј —Г–ї–Є—Ж—Л –Ъ–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї—М—Б–Ї–∞—П» – –Њ—В–Ї—А—Л–ї–Њ –њ–µ—А–≤—Л–є –љ–Њ–Љ–µ—А «–Ф–Є–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї—П»:
–Р.–Ъ.: –Т—Л –Њ–і–љ–Њ–Ј–љ–∞—З–љ–Њ –љ–∞ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –Њ. –ѓ. –Ъ., —З—В–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ–Њ–≤—А–µ–і–Є—В—М –Њ–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞, –Є —П –Є–Ј —Б–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є —А–∞–≤–љ–Њ–≤–µ—Б–љ–Њ—Б—В–Є —Б—В–∞–ї –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–µ–µ —З–Є—В–∞—В—М —В–µ–Ї—Б—В—Л –Њ. –Р. –Ъ. (–і–Њ –љ–∞—И–µ–є –і–Є—Б–Ї—Г—Б—Б–Є–Є –Љ–Њ–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї –љ–µ–Љ—Г –±—Л–ї–Њ –±–Њ–ї–µ–µ —Б–Ї–µ–њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ). –Ь.–Ъ.: –ѓ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї–∞... –Р.–Ъ.: –≠—В–∞ –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ—Б—В—М –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б—А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –Є –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –µ—Б–ї–Є –Љ—Л –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ –∞–Ї—Ж–µ–љ—В–љ—Л–є/–Њ—Ж–µ–љ–Њ—З–љ—Л–є –њ–µ—А–µ–Ї–Њ—Б –≤ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–µ. –Ь.–Ъ.: C–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–∞... –Ь–Њ–≥—Г —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ–µ–µ: —В—Г—В –±–µ–і–∞ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ. –Р. –Ъ., –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —П –і–Њ –±–Њ–ї–µ–µ –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Б—В–≤–∞ —Б –µ–≥–Њ —В–µ–Ї—Б—В–∞–Љ–Є –±—Л–ї–∞ –≤ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–µ –≥–Њ—В–Њ–≤–∞ —Г–≤–∞–ґ–∞—В—М –Є –і–∞–ґ–µ —Б—А–∞–ґ–∞—В—М—Б—П –Ј–∞ –љ–µ–≥–Њ —Б –і–≤—Г–Љ—П –Љ–Њ–Є–Љ–Є –і—А—Г–Ј—М—П–Љ–Є, –≤—Л–љ–µ—Б—И–Є–Љ–Є –Є–Ј –Њ–±—Й–µ–љ–Є—П —Б –љ–Є–Љ –љ–µ–≥–∞—В–Є–≤–љ—Л–µ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є—П, –≤—Л—И–µ–ї —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –∞–љ—В–Є—Б–µ–Љ–Є—В–Є–Ј–Љ–Њ–Љ –Ј–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ–Њ–≥–Њ –≤ «–њ—А–Є–ї–Є—З–љ–Њ–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ». –Ю —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –∞–љ—В–Є—Б–µ–Љ–Є—В–Є–Ј–Љ – –і–∞–ґ–µ –Ї–∞–Ї –±—Л «–Љ—П–≥–Ї–Є–є» - –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ–±–Њ–є –Љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —Б–Ї–≤–µ—А–љ—Г, —П –Т–∞–Љ —Г–ґ–µ –њ–Є—Б–∞–ї–∞. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Љ–љ–µ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М, –Ї–∞–Ї –њ—А–Є–љ—П—В—М —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –Њ. –ѓ. –Ъ. (—Г –љ–∞—Б –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В—Б—П «–Њ—В –Р –і–Њ –ѓ»), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ—В–љ—О–і—М –љ–µ –∞–љ–≥–µ–ї, –љ–Њ, –њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ, –≤ –љ–∞—И–µ —Б–Љ—Г—В–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–µ—В —В—А–µ–Ј–≤–Њ—Б—В—М –Є –ї–Њ–≥–Є–Ї—Г –Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П, –љ–Є –љ–∞ –Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ —А–∞–±–Њ—В–∞–µ—В, –љ–µ —Б–ї—Г–ґ–Є—В –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є–Љ «–Ј–і–µ—И–љ–Є–Љ» —Б–Є–ї–∞–Љ –Є —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ –љ–Є –њ–µ—А–µ–і –Ї–µ–Љ –љ–µ –≤—Л—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П… –Ю–± —Н—В–Њ–є –і–∞–≤–љ–µ–є –і–Є—Б–Ї—Г—Б—Б–Є–Є —П –±—Л –љ–µ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї, –µ—Б–ї–Є –љ–µ –њ—А–Њ—З–Є—В–∞–ї –≤ «–Ь–µ–є–ї–µ»: –Ф.–§.: –°—В–∞—В—М—П –≤ «–Ф–Є–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–ї–µ» (—Б –Ъ–Њ—А–∞–±–ї–µ–≤—Л–Љ) –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–∞—П. –Ь–љ–µ – –њ–Њ –і—Г—И–µ. –Э–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—Б–µ —Н—В–Є —Б—В–∞—А–∞–љ–Є—П, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –±–µ—Б–њ–Њ–ї–µ–Ј–љ—Л (—Е–Њ—В—П –Є – –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ—Л). –Ю–і–љ–Є –ї–Є—И—М –µ—Й–µ —А–∞–Ј —Г—В–≤–µ—А–і—П—В—Б—П –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Є —В–∞–Ї –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О—В, –і—А—Г–≥–Є–µ –µ—Й–µ –њ—Г—Й–µ —Б—В–∞–љ—Г—В –Њ—А–∞—В—М –њ—А–Њ –Ј–∞—Б–Є–ї—М–µ. –Ь.–Ъ.: –≠—В–Њ –≥–і–µ –њ—А–Њ –Ъ—Г—А–∞–µ–≤–∞ –Є –њ—А–Њ—З.? –Х—Б–ї–Є –і–∞, —В–Њ, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, —Б—В–∞—А–∞–љ–Є—П –Є –њ—А–∞–≤–і–∞ –±–µ—Б–њ–Њ–ї–µ–Ј–љ—Л. –Ґ—Г—В —Б—А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Њ –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ «–љ–µ –Љ–Њ–≥—Г –Љ–Њ–ї—З–∞—В—М». –Э–Њ —Г –Љ–µ–љ—П –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ—В –±—Г–Љ–∞–ґ–љ–Њ–≥–Њ —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А–∞. –Р –≤ –Ш–љ—В–µ—А–љ–µ—В –љ–µ–і–Њ—Б—Г–≥ –ї–∞–Ј–∞—В—М. –Ґ–∞–Ї —З—В–Њ –њ–Њ–Ї–∞ –±–µ–Ј –Ї–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–µ–≤. –ѓ –µ—Й–µ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А—О, —З—В–Њ –Ъ–Њ—А–∞–±–ї–µ–≤ –Є–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞ —Б–і–µ–ї–∞–ї. –°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —П —Б –љ–Є–Љ –±–Њ—А–Њ–ї–∞—Б—М… («–Ь–µ–є–ї», —Б.280, 282). –Т–Њ—В –Ї–∞–Ї. –Р —П –і—Г–Љ–∞–ї – –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В. –Ф—Г–Љ–∞–ї, —З—В–Њ —Н—В–Њ —П –±–Њ—А–Њ–ї—Б—П. –Ф.–§.: –Х—Й–µ –Є–Ј –∞–Ї—В–Є–≤–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Е—Б—П: –≤—А–Њ–і–µ «–Ф–Є–Ї–Њ–µ –њ–Њ–ї–µ» –≤ вДЦ 5 –љ–∞–њ–µ—З–∞—В–∞–ї–Њ. –Ь–Њ–ґ–µ—В, –≤ –ї–Њ—В–Њ –љ–∞ –≤—Б–µ –і–µ–љ—М–≥–Є —Б—Л–≥—А–∞—В—М? –Ь.–Ъ.: –Р —В—Л –і–∞–ґ–µ –і–µ–љ—М–≥–Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї? –Ю–≥–Њ. –Ф.–§.: –Ф–µ–љ–µ–≥ –≤ «–Ф–Є–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–ї–µ», –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –љ–µ –њ–ї–∞—В—П—В, –µ—Й–µ —З–µ–≥–Њ... («–Ь–µ–є–ї», —Б.422, 425). –Ю–љ–∞ – –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ–Ј–і–µ—И–љ—П—П, –≥–Њ—Б—В—М—П –≤ —Н—В–Њ–Љ –Љ–Є—А–µ. –І—В–Њ-—В–Њ –Ј–љ–∞–µ—В, —З–µ–≥–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞—О—В –і—А—Г–≥–Є–µ, —З—В–Њ-—В–Њ –≤–∞–ґ–љ–Њ–µ, –і–∞—О—Й–µ–µ –њ—А–∞–≤–Њ —Б—Г–і–Є—В—М –Є –Љ–Є–ї–Њ–≤–∞—В—М. –Э–Њ —З—В–Њ-—В–Њ –µ—Й–µ —Е–Њ—З–µ—В –њ–Њ–љ—П—В—М, –Є —В–Њ–≥–і–∞ –Њ—Б—В—А–Њ –≤–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, —В—А–Њ–≥–∞–µ—В, –і–≤–Є–≥–∞–µ—В, —А–Є—Д–Љ—Г–µ—В… –Ь–∞—И–∞ –Є –Љ–µ–і–≤–µ–і—М. 3 –§–∞–љ—И–µ–ї—М –Ф. –Ь–µ–є–ї. – [–Ъ—С–ї—М–љ], 2007. – 428 —Б.
–Ґ–Ю–І–Ъ–Р –Ш –Ь–Э–Ю–У–Ю–Ґ–Ю–І–Ш–Х–Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ, –≤ —З–∞—Б –љ–µ–±—Л–≤–∞–ї–Њ –ґ–∞—А–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–∞—В–∞, –≤ –і–Њ–Љ–µ-–Љ—Г–Ј–µ–µ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –С—Г–ї–≥–∞–Ї–Њ–≤–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–∞ –њ—А–µ–Ј–µ–љ—В–∞—Ж–Є—П –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞ «–Ф–Є–Ї–Њ–µ –њ–Њ–ї–µ», –њ–Њ—Б–ї–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Є–Ј–і–∞—В–µ–ї—М –Є —А–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А (–Т–∞–і–Є–Љ –У–µ—Д—В–µ—А –Є —П) –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –і–≤—Г–Љ—П –∞–≤—В–Њ—А–∞–Љ–Є (–Ь–Є—Е–∞–Є–ї–Њ–Љ –Ъ–Њ—З–µ—В–Ї–Њ–≤—Л–Љ –Є –Ш–≥–Њ—А–µ–Љ –Ш—А—В–µ–љ—М–µ–≤—Л–Љ) –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М –≤ —А–µ—Б—В–Њ—А–∞–љ. –Ъ–∞–ґ–µ—В—Б—П, –≤ –¶–Ф–Ы. –°–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ —Н—В–Њ –±—Л–ї –Њ–±—Л—З–љ—Л–є –Ј–∞—Б—В–Њ–ї—М–љ—Л–є —В—А–µ–њ – –љ–µ—В, –љ–µ —Б–Ї–∞–ґ—Г. –Э–µ –Њ–±—Л—З–љ—Л–є. –®—Г—В–Ї–Є, –±–∞–є–Ї–Є, —В–Њ—Б—В—Л – —Н—В–Њ —Б–∞–Љ–Њ —Б–Њ–±–Њ–є, –љ–Њ —З—В–Њ-—В–Њ –≤ –љ–Є—Е –±—Л–ї–Њ –µ—Й–µ, –Ї—А–Њ–Љ–µ –њ—А—П–Љ–Њ–≥–Њ —Б–Љ—Л—Б–ї–∞ –Є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П. –£–ґ –љ–µ –њ–Њ–Љ–љ—О, –њ–Њ—Б–ї–µ –Ї–∞–Ї–Њ–є –њ–Њ —Б—З–µ—В—Г —А—О–Љ–Ї–Є —П –≤–і—А—Г–≥ –њ–Њ—Б—В–Є–≥, –≤ —З–µ–Љ –і–µ–ї–Њ. –Ч–∞ —Б—В–Њ–ї–Њ–Љ —Б–Є–і–µ–ї–Є –Ї–ї–∞—Б—Б–Є–Ї–Є. –Э–µ –њ–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є—О, —Е–Њ—В—П –Є –Њ–љ–Њ —Г–ґ–µ –±—Л–ї–Њ, –Є –љ–µ –њ–Њ —Д–Њ—А–Љ–∞—В—Г, –∞ –њ–Њ –Є–Ј–ї—Г—З–µ–љ–Є—О, –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ, –і–Њ–Ј–Є—А—Г—О—Й–µ–є, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–µ –≤—Л–њ–Є—В–Њ–µ, –љ–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–љ–Њ–µ, –і–∞–ґ–µ –≤ —В–∞–Ї–Њ–є –≤—А–Њ–і–µ –±—Л –љ–µ—Б—Ж–µ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є. –ѓ —В—Г—В –ґ–µ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –Ј–∞ —Н—В–Њ –≤—Л–њ–Є—В—М. –Ч–∞–Ї—А–µ–њ–Є—В—М, —В–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —Б–≤–Њ–µ –њ—А–Њ–Ј—А–µ–љ–Є–µ. - –Ч–∞ —Е–Њ—А–Њ—И–Є–є –≤–Ї—Г—Б! – —Б—А–∞–Ј—Г –Њ—В—А–µ–∞–≥–Є—А–Њ–≤–∞–ї –Ъ–Њ—З–µ—В–Ї–Њ–≤. –Э–Њ –Љ–љ–µ —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –і–Њ–і—Г–Љ–∞—В—М —Б–≤–Њ—О –і–Њ–≥–∞–і–Ї—Г. –Х—Б–ї–Є –Њ–љ–∞ –≤–µ—А–љ–∞, —В–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –љ–µ–≤–∞–ґ–љ—Л–Љ. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Є—Е –Њ—В–ї–Є—З–Є—П. –Ю—В –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л—Е. –Ф—А—Г–≥ –Њ–љ –і—А—Г–≥–∞. –Ф–∞, –Њ–љ–Є —А–∞–Ј–љ—Л–µ, –љ–Њ —Б—Г—В—М –љ–µ –≤ —Н—В–Њ–Љ. –Ю–љ–Є —А–∞–Ј–љ—Л–µ, –Љ–Њ–ґ–µ—В, –Є —Б–∞–Љ–Є –њ–Њ —Б–µ–±–µ. –≠—В–Њ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –Ъ–Њ—З–µ—В–Ї–Њ–≤ –Є—Б–Ї—А–Њ–Љ–µ—В –Є –±–∞–ї–∞–≥—Г—А, –∞ –Ј–∞–≤—В—А–∞, –Љ–Њ–ґ–µ—В, –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В. –Р –Ш—А—В–µ–љ—М–µ–≤ – —В–Њ—В, –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В, —Б–µ–є—З–∞—Б –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В – –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ, —Б–µ—А—М–µ–Ј–µ–љ, –љ—Г, –Ї–∞–Ї –Є—Б—В–Є–љ–љ—Л–є —О–Љ–Њ—А–Є—Б—В, –∞ –Ј–∞–≤—В—А–∞ –±—Г–і–µ—В –Њ–±—А–∞—В–µ–љ. –°—Г—В—М –≤ —З–µ–Љ-—В–Њ –і—А—Г–≥–Њ–Љ: –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Б—Г–Љ–Љ–Є—А—Г–µ—В –Є—Е —А–∞–Ј–љ–Њ—Б—В—М, –Є—Е –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї—Л, –Є—Е —А–µ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—О. –І—В–Њ –≤—Л–љ–Њ—Б–Є—В –Є—Е –Ї—Г–і–∞-—В–Њ –Ј–∞ —Б–Ї–Њ–±–Ї–Є, –Ј–∞ —А–∞–Љ–Ї–Є. –Ч–∞ –њ—А–µ–і–µ–ї—Л —Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є. –Т–Њ—В —Н—В–Њ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–ї–Њ–≤–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М. –Х—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М? –Я–Њ–і–ї–Є–љ–љ–Њ—Б—В—М? –Т–Њ–Њ–±—Й–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П, —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ —Б–≤–Њ–µ–є –Ј–љ–∞—З–Є–Љ–Њ—Б—В–Є – –љ–µ —В–∞–Ї–Њ–µ —Г–ґ –њ–Њ—Б—В—Л–і–љ–Њ–µ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–Њ. –•–Њ—А–Њ—И–Њ —Б–і–µ–ї–∞–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–µ—В –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–µ–µ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—М—Б—П –Ї —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –µ—Й–µ –њ—А–µ–і—Б—В–Њ–Є—В —Б–і–µ–ї–∞—В—М. –Э–Њ –µ—Б—В—М –Є –њ–Њ–±–Њ—З–љ—Л–µ —Н—Д—Д–µ–Ї—В—Л: —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –њ—А–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Є —Г–ґ–µ –љ–µ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В, –∞ —Б–љ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В, –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В, –∞ –≤–µ—Й–∞–µ—В. –С—А–Њ–љ–Ј–Њ–≤–µ–µ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –°–њ–∞—Б–µ–љ–Є–µ –Њ—В —Н—В–Њ–≥–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–љ–Њ – –Є–і—В–Є –і–∞–ї—М—И–µ, –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–≤–∞—П —Н—В—Г —Б—В–∞–і–Є—О. –Ю–± —Н—В–Њ–Љ – –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї–∞ –Ъ–∞—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –≤ —Б–µ—А–і—Ж–µ –њ–Њ–њ–∞–ї–∞ –ї—М–і–Є–љ–Ї–∞, –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–≤—И–∞—П –µ–≥–Њ –≤ –ї–µ–і—П–љ–Њ–µ –њ–Њ–і–Њ–±–Є–µ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ —Б–µ–±—П. –Ю–± —Н—В–Њ–Љ – –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –Ъ–∞–Є–љ–∞, –Њ—Ж–µ–љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —З—Г—В—М –Љ–µ–љ–µ–µ, —З–µ–Љ –µ–≥–Њ –±—А–∞—В. –Ю–± —Н—В–Њ–Љ –ґ–µ – –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –Ь–Њ—Ж–∞—А—В–∞ –Є –°–∞–ї—М–µ—А–Є, –і–≤—Г—Е –≥–µ–љ–Є–µ–≤, –ґ–Є–≤–Њ–≥–Њ –Є –±—А–Њ–љ–Ј–Њ–≤–Њ–≥–Њ. –Ф–∞ –Љ–∞–ї–Њ –ї–Є –µ—Й–µ… –Ш –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—И—М –њ—А–Є–≤—Л–Ї–∞—В—М –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г –Њ–Ї–∞—П–љ—Б—В–≤—Г, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ —Н—В–Њ –љ–Њ—А–Љ–∞ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –Є –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —В–∞–Ї —Г–і–Є–≤–ї—П–µ—И—М—Б—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤–Є–і–Є—И—М, —З—В–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Є–љ–∞—З–µ. –Я—А–Њ—Б—В–Њ –Є —А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ. –Ю–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –Ї–ї–∞—Б—Б–Є–Ї–Є –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –ґ–Є–≤—Л–Љ–Є. –Я–Є–Ї–љ–Є–Ї –љ–∞ –Я–∞—А–љ–∞—Б–µ. –•–Њ—В—М –Є –≤ –¶–Ф–Ы. –†–∞—Б—Б—В–∞–≤–∞—П—Б—М, —П —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –і–Њ—А–Њ–≥—Г. –Т—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –љ–Њ—З—М, –Љ–µ–≥–∞–њ–Њ–ї–Є—Б, —Б—А–∞–Ј—Г –љ–µ —Б–Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А—Г–µ—И—М—Б—П. (–°–њ—А–Њ—Б–Є–ї –≤ –њ—А—П–Љ–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ, –∞ –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ–Ј–≤—Г—З–∞–ї–Њ!) –Ф–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ. –Э–Њ –Ш–≥–Њ—А—М –Ь–Њ–Є—Б–µ–µ–≤–Є—З –њ–Њ—И–µ–ї —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є, –Ї–∞–Ї –Т–µ—А–≥–Є–ї–Є–є, - —Б–њ—Г—Б—В–Є–ї—Б—П –љ–∞ —Н—Б–Ї–∞–ї–∞—В–Њ—А–µ –≤ –њ–Њ–і–Ј–µ–Љ–Ї—Г, –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї –≤–∞–≥–Њ–љ, –њ–Њ–ґ–µ–ї–∞–ї –і–Њ–±—А–∞ –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –њ–Њ—И–µ–ї —Б–≤–Њ–µ–є –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є. –≠—В–Њ –Є –±—Л–ї –њ—Г—В—М.
–С–µ–Ј—Г–і–∞—А–љ–Є–Ї
–Т–Њ—В –Є —Н—В–∞ –Ї–љ–Є–ґ–Ї–∞ – —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є–є –Њ—В—З–µ—В. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—П—В–Є–ї–µ—В–Ї–Є – –±–µ–Ј—Г–і–∞—А–љ—Л–µ. –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –∞–≤—В–Њ—А – –љ–µ —В—А—Г–і—П–≥–∞, –∞ –±—А–Њ–і—П–≥–∞. –Я–Њ—Н—В, –±–∞—А–і, —И–∞—А–Љ–∞–љ—Й–Є–Ї. –С–Њ–ї–µ–µ 300 —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж –Ј–∞ 30 –ї–µ—В – –љ–µ –Љ–∞–ї–Њ –ї–Є? 156 (37+33+30+18+17+21) —В–µ–Ї—Б—В–Њ–≤. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ – —Е—А–µ—Б—В–Њ–Љ–∞—В–Є–є–љ—Л–µ. –≠—В–Њ –Њ—З–µ–љ—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –≤—Б–µ —Н—В–Њ –љ—Г–ґ–љ–Њ —Б–ї—Г—И–∞—В—М. –°–ї—Л—И–∞—В—М –≥–Њ–ї–Њ—Б –Ъ–Њ—З–µ—В–Ї–Њ–≤–∞, –µ–≥–Њ —А–∞–Ј–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–µ –Є–љ—В–Њ–љ–∞—Ж–Є–Є – —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ, –Є—А–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ, —А–∞–Ј–≥—Г–ї—М–љ—Л–µ, –њ–∞—А–Њ–і–Є–є–љ—Л–µ, —Н–ї–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ, —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ… –Э–Њ, –≤–Њ—В, –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Є —З–Є—В–∞—В—М. –Ъ –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –њ—П—В–Є–ї–µ—В–Ї–µ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–љ—Л–є —Н–њ–Є–≥—А–∞—Д, –≤—Л—А–∞–ґ–∞—О—Й–Є–є –≥–ї–∞–≤–љ—Г—О —В–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞ –Є –µ–≥–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є —Б–Љ—Л—Б–ї, —В–∞–Ї —З—В–Њ, –µ—Б–ї–Є –њ—А–Њ—З–Є—В–∞—В—М –Є—Е —Б–≤—П–Ј–љ–Њ, —В–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—Б—П —Н—В–∞–Ї–Є–є –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ-—В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ—Г–љ–Ї—В–Є—А – –њ–Њ—Н–Љ–∞ —Б—Г–і—М–±—Л:
–Ь–Њ–ґ–љ–Њ —Г–≤–Є–і–µ—В—М, –њ–µ—А–µ–ї–Є—Б—В—Л–≤–∞—П —Н—В–Є —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж—Л —Б—Г–і—М–±—Л, –Ї–∞–Ї –Ї—А–µ–њ—З–∞–µ—В —Б—В–Є—Е, —Б—В–∞–љ–Њ–≤—П—Б—М —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–µ–µ, –∞—Д–Њ—А–Є—Б—В–Є—З–љ–µ–µ, –Є –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ —П—Б–љ–µ–µ –њ—А–Њ—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –≤ –љ–µ–Љ —Б–≤–Њ–µ, –Ї–Њ—З–µ—В–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ. –Я–µ—А–µ–ї–Є—Б—В—Л–≤–∞—П —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж—Л –≤ –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є, –≤–Є–і–Є—И—М –љ–µ—Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–∞, –Љ–µ–љ–µ–µ –Ј–∞–Љ–µ—В–љ—Л–µ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ. –Т–Њ—В, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Є–Ј —А–∞–љ–љ–µ–≥–Њ - «–®–∞—А–Љ–∞–љ—Й–Є–Ї» (1980): –®–∞—А–Љ–∞–љ—Й–Є–Ї —Б—Л–≥—А–∞–µ—В –Ґ—Г—В –±—Л –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М —В–Њ—З–Ї—Г, –љ–Њ —И–∞—А–Љ–∞–љ–Ї–∞ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ—В—Б—П, —Г–ґ–µ –њ–Њ –Є–љ–µ—А—Ж–Є–Є, –њ—А–Њ–Є–≥—А—Л–≤–∞—П —В–µ –ґ–µ —Б–Љ—Л—Б–ї—Л –Є –≤ –Є—В–Њ–≥–µ –њ—А–Њ–Є–≥—А—Л–≤–∞—П –≤ —Д–Њ—А–Љ–µ. –Э–Њ —Н—В–Њ –Љ–∞–ї–Њ–Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ «–њ–µ—Б–µ–љ–Ї–∞». –Ф–∞ –Є —Б–∞–Љ–∞ —И–∞—А–Љ–∞–љ–Ї–∞ – —Н—В–Њ –ґ–µ –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ —В–∞–Ї–∞—П –љ–µ—Е–Є—В—А–∞—П –Љ–µ–ї–Њ–і–Є—П, —Н—В–Њ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞ –≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—П, –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–∞—П –Љ–Њ–і–µ–ї—М –љ–µ–±–µ—Б–љ—Л—Е —Б—Д–µ—А, –≤–µ—З–љ–Њ–µ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ… –Я–Њ—Е–Њ–ґ–µ, –њ–Њ —Н—В–Њ–є –ґ–µ –њ—А–Є—З–Є–љ–µ —В–Њ—З–Ї–∞ –Є –і–∞–ї–µ–µ –љ–µ —Б—В–∞–≤–Є—В—Б—П –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ —Б–Љ—Л—Б–ї–∞, –Є —Б–Љ—Л—Б–ї –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ—В—Б—П, –Є –њ–µ—Б–µ–љ–Ї–∞ –і–ї–Є—В—Б—П, –Є —В–Њ—З–Ї–∞ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –≤ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—В–Њ—З–Є–µ…
–Х—Й–µ –Њ–і–љ–∞ –≤–∞—А–Є–∞—Ж–Є—П –љ–µ—А—Г–Ї–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ «–Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞». –Т –Є—А—В–µ–љ—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ —Б—В–Є–ї–µ – —В–Њ—З–љ–Њ, —В–Њ—З–µ—З–љ–Њ, –Є—А–Њ–љ–Є—З–љ–Њ, —Б–љ–Є–ґ–∞—П, –љ–Њ –љ–µ —Б–љ–Є–Љ–∞—П –њ–∞—Д–Њ—Б. –Ш—А–Њ–љ–Є—З–љ–Њ—Б—В—М – –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є –Ш—А—В–µ–љ—М–µ–≤–∞, —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞—О—Й–µ–µ –µ–≥–Њ –њ–Њ–≤—Б—О–і—Г, –Ї–∞–Ї —В–µ–љ—М. –Ш –≤–Њ—В, —З–µ—Б—В–≤—Г—П —О–±–Є–ї—П—А–∞ –Є —З—Г–≤—Б—В–≤—Г—П –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В, –∞–≤—В–Њ—А –њ—А–µ–і–Є—Б–ї–Њ–≤–Є—П –Я–µ—В—А –Т–∞–є–ї—М —А–µ—И–Є–ї –Є–Ј–±–∞–≤–Є—В—М –њ–Њ—Н—В–∞ –Њ—В —Н—В–Њ–≥–Њ —П—А–ї—Л–Ї–∞. –Э–∞—З–∞–ї –Њ–љ —Б—А–∞–Ј—Г —Б —В–µ–Њ—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–µ–Ј–Є—Б–∞: «…–Є—А–Њ–љ–Є—П – —Б–Љ–µ—И–љ–Њ–µ –њ–Њ–і –Љ–∞—Б–Ї–Њ–є —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ–≥–Њ. –Ѓ–Љ–Њ—А – —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ–µ –њ–Њ–і –Љ–∞—Б–Ї–Њ–є —Б–Љ–µ—И–љ–Њ–≥–Њ». –Ш —В—Г—В –ґ–µ, –љ–µ —Г—В–Њ–Љ–ї—П—П —З–Є—В–∞—В–µ–ї—П, –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Є—В –Ї –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—О: —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –Ш—А—В–µ–љ—М–µ–≤ – –љ–µ –Є—А–Њ–љ–Є—Б—В, –∞ —О–Љ–Њ—А–Є—Б—В. –Э–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Є —В–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –љ–µ—В? –Э–Њ –≤—Б–µ –ґ–µ –Ї–∞–Ї-—В–Њ –њ—А–Є–≤—Л—З–љ–µ–µ —Б—З–Є—В–∞—В—М, —З—В–Њ –Є—А–Њ–љ–Є—П –љ–Є –Ї —Б–Љ–µ—И–љ–Њ–Љ—Г, –љ–Є –і–∞–ґ–µ –Ї –Ї–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ—А—П–Љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В. –Ъ–Њ—Б–≤–µ–љ–љ–Њ–µ – –і–∞, –љ–Њ –љ–µ –њ—А—П–Љ–Њ–µ. –°–Ї–∞–ґ–µ–Љ, –∞–≤—В–Њ—А –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–Є—В –Ї—А–Є—В–Є–Ї–∞: «–°–њ–∞—Б–Є–±–Њ, –і—А—Г–≥». –Э–Њ —З—Г—В–Ї–Є–є –Ї—А–Є—В–Є–Ї —Г–ї–∞–≤–ї–Є–≤–∞–µ—В –≤ –µ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞—Е –Є—А–Њ–љ–Є—О, –њ—А–Є—З–µ–Љ –њ—Л—В–∞–µ—В—Б—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М, –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б–ї–Њ–≤–µ. –Ш–ї–Є —Б—А–∞–Ј—Г –≤ –і–≤—Г—Е? –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –µ—Б–ї–Є –Њ–љ–Є —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ—Л –Є—А–Њ–љ–Є—З–љ–Њ, —В–Њ –Є—Е —Б–Љ—Л—Б–ї –Љ–µ–љ—П–µ—В—Б—П –љ–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ—Л–є. –Ш –Ї—А–Є—В–Є–Ї—Г –Њ—В —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ —Б–Љ–µ—И–љ–Њ. –Р —Б–Њ–Ї—А–∞—В–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –Є–ї–Є —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Є—А–Њ–љ–Є—П – —В–∞–Ї —Н—В–Њ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–Є–є –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–є. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —Б–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–Є–є –Ї–∞–Ї –±—Л –њ—А–Є–њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П –љ–∞–і —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ. –≠—В–Њ —Б–Љ–µ—И–љ–Њ? –С—Л–≤–∞–µ—В –Є —Б–Љ–µ—И–љ–Њ. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д —В—Й–Є—В—Б—П –±—Л—В—М —Г–Љ–љ–µ–µ, —З–µ–Љ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –µ–≥–Њ —Г–Љ, –∞ –µ–Љ—Г –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В –Є—А–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є: «–Ъ–∞–Ї–Њ–є —В—Л —Г–Љ–љ—Л–є!» –° –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д —Б–ї—Л—И–Є—В —В–Њ, —З—В–Њ —Е–Њ—З–µ—В —Г—Б–ї—Л—И–∞—В—М, –љ–Њ –Є—А–Њ–љ–Є—П –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В –Є –і—А—Г–≥—Г—О —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г, –≥–і–µ –і—А—Г–≥–Є–µ –њ–∞—А–∞–Љ–µ—В—А—Л —Г–Љ–∞ –Є –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П. –Ґ–∞–Ї –≤–Њ—В, –Є—А–Њ–љ–Є—П –Ш—А—В–µ–љ—М–µ–≤–∞ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є—З–љ–∞. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–±—К–µ–Ї—В—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–љ–∞ –Є–Ј–±–Є—А–∞–µ—В, –љ–µ –∞–±—Б—В—А–∞–Ї—В–љ—Л, –∞ –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ—Л, –Є –±–Њ–ї—М—И–µ–є —З–∞—Б—В—М—О —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л. –°–љ–∞—З–∞–ї–∞ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–µ –Ї–ї–Є—И–µ, —Б—В–µ—А–µ–Њ—В–Є–њ—Л, –Є–і–Є–Њ–Љ—Л. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –ґ–µ –≤—Б—П –Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –љ–∞–і—Б—В—А–Њ–є–Ї–∞ –±—Л–ї–∞ —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–∞ –і–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –њ–Њ–і–Њ—Б–њ–µ–ї–Є –љ–Њ–≤—Л–µ —Б—В–µ—А–µ–Њ—В–Є–њ—Л, –Є–Ј –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –Є –њ–Њ—Н—В, —Б —В–Њ–є –ґ–µ —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ—Б—В—М—О, –љ–µ –Љ–µ–љ—П—П –њ—А–Є—Ж–µ–ї–∞, —Б—В–∞–ї –і–µ–Љ–Њ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Є –љ–Њ–≤—Л–µ. –Х—Б–ї–Є —З–Є—В–∞—В—М —Б—В–Є—Е–Є –Ш—А—В–µ–љ—М–µ–≤–∞, –љ–µ —Б–ї—Л—И–∞ –≤ –љ–Є—Е –Є—А–Њ–љ–Є–Є, –Њ–љ–Є –Љ–Њ–≥–ї–Є –±—Л –≤–Њ–є—В–Є –≤ –∞–љ–љ–∞–ї—Л —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–µ–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞ –Є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–∞—В—А–Є–Њ—В–Є–Ј–Љ–∞. –Э—Г –≤–Њ—В, –Ї –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г:
–Ш–ї–Є:
–Ш—А–Њ–љ–Є—П –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –њ–Њ—Н—В—Г –≤—Б—П—З–µ—Б–Ї–Є –Є —А–∞–Ј–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ —Н–Ї—Б–њ–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —Б–µ–±—П. –Р —З—В–Њ? –≠—В–Њ –ґ –Є—А–Њ–љ–Є—З–љ–Њ, –Ї–∞–Ї –±—Л –љ–µ –≤—Б–µ—А—М–µ–Ј. –≠—В–Њ –Ї–∞–Ї –±—Л –Њ–±—А–∞–Ј —Б–µ–±—П —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ, –Є –≤—Б–µ –ґ–µ –љ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –Њ–±—А–∞–Ј –Є –љ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —Б–µ–±—П – –Є–Љ–Є–і–ґ, —В–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М:
–Ш–ї–Є:
–Ш–Љ–Є–і–ґ –Ш—А—В–µ–љ—М–µ–≤–∞ – «–њ–Њ—Н—В-–њ—А–∞–≤–і–Њ—А—Г–±». –Ш–Љ–Є–і–ґ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Є—А–Њ–љ–Є—З–љ—Л–є –Є —Г—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є. –Т–Њ–Њ–±—Й–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П, –њ—А–∞–≤–і–∞ – —Н—В–Њ –љ–µ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, —Н—В–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–µ —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–Њ –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є. –Э–Њ –Ј–і–µ—Б—М –Є–љ–Њ–µ, –Ј–і–µ—Б—М —Б–∞–Љ–∞ –њ—А–∞–≤–і–∞, –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–∞—П –њ—А—П–Љ–Њ, —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ. –Ш —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л —Б–Љ–µ—И–љ–Њ, –µ—Б–ї–Є –±—Л –Њ–љ–∞ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М –≤—Б–µ—А—М–µ–Ј. –Т –љ–∞—И–µ-—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П! –Ш—А–Њ–љ–Є—П —Б–љ–Є–Љ–∞–µ—В —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ—Б—В—М, –Є —Е–Њ—В—П –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П —Б–Љ–µ—И–љ–Њ, –љ–Њ —Г–ґ–µ –њ–Њ-–Є–љ–Њ–Љ—Г —Б–Љ–µ—И–љ–Њ, —Н—Б—В–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є. –Я—А–Є–µ–Љ –љ–µ—Е–Є—В—А—Л–є, –Є –µ–≥–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –ї–µ–≥–Ї–Њ –Њ—Б–≤–Њ–Є–ї–Є. –І—Г—В—М –ї–Є –љ–µ –≤—Б–µ. –Ш—А–Њ–љ–Є—П —Б—В–∞–ї–∞ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤—Л–Љ —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–Њ–Љ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л. –Ш—А–Њ–љ–Є—П —Б—В–∞–ї–∞ —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤—Л–Љ –∞–Ї—Ж–µ–љ—В–Њ–Љ, –і–Є–∞–ї–µ–Ї—В–Њ–Љ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ї–∞—Ж–Є–є. –Ш—А–Њ–љ–Є—П —Б—В–∞–ї–∞ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–µ–Љ –і–ї—П –ї–Є—В–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ – —З–µ–Љ –ї–µ–≥—З–µ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М—Б—П –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ, —В–µ–Љ —В—А—Г–і–љ–µ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–∞—В—М—Б—П —Б–Њ–±–Њ–є, –і–∞–ґ–µ –≤ –Є—А–Њ–љ–Є–Є. –Ш—А–Њ–љ–Є—П –і–µ—Б—В—А—Г–Ї—В–Є–≤–љ–∞, –Є –Њ–љ–∞ –љ—Г–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –≤ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–∞—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–∞–і–Њ —А–∞–Ј—А—Г—И–Є—В—М, –±—Г–і—М —В–Њ —В–µ–Ј–Є—Б, –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є—П –Є–ї–Є —Ж–µ–ї–Њ–µ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–Ј–Ј—А–µ–љ–Є–µ. –Ы–Њ–Љ–∞—В—М – –љ–µ —Б—В—А–Њ–Є—В—М, –љ–Њ, –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –Є –ї–Њ–Љ–∞—В—М –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б–љ–Њ, –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞—П —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–Є–µ –≤ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –∞–Ї—Ж–Є—О, –њ–µ—А—Д–Њ—А–Љ–∞–љ—Б, –і–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—О. –Ш, –Ї–∞–Ї –≤ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ, –Ј–і–µ—Б—М —В–Њ–ґ–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–µ–љ —Б–≤–Њ–є —Б—В–Є–ї—М. –£ –Ш—А—В–µ–љ—М–µ–≤–∞ –Њ–љ –µ—Б—В—М. –Ю–љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П –Њ–±—Й–Є–Љ, –Њ–њ—А–Њ–±–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ –≤—Б–µ–Љ–Є, –Ї–Њ–Љ—Г –љ–µ –ї–µ–љ—М –њ—А–Њ–є—В–Є—Б—М –њ–Њ —А—Г–Є–љ–∞–Љ –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є. –£ –Ш—А—В–µ–љ—М–µ–≤–∞ –Њ–љ –µ—Б—В—М, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ, –Ї–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ, —Б—В–Є–ї—М – —Н—В–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –°—В–Є–ї—М –Ш—А—В–µ–љ—М–µ–≤–∞ – —Н—В–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –љ–∞ —А—Г–Є–љ–∞—Е. –Ґ–Њ—З–Ї–∞ —А—Г… 5 –Ш—А—В–µ–љ—М–µ–≤ –Ш. –Ґ–Њ—З–Ї–∞ —А—Г. – –Ь.: –Т—А–µ–Љ—П, 2008. – 112 —Б.
–Э–Х–°–Т–Ю–С–Ю–Ф–Р –Э–Х–С–Ю–°–Т–Ю–Ф–Р
–Ф–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–∞ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–∞—П –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б–Ї–∞, –≥–і–µ –Њ–љ —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —В–Њ—З–љ–Њ, –µ–Љ–Ї–Њ, –Ї—А–∞—В–Ї–Њ –Њ—З–µ—А—В–Є–ї –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ, —Б –µ–≥–Њ —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П, —Д–Є–≥—Г—А—Л —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ—Н—В–Њ–≤ –£–Ї—А–∞–Є–љ—Л. –Т–Њ–Њ–±—Й–µ-—В–Њ –њ–Њ—Н—В—Г –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В—Б—П –±—Л—В—М –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—В—А–∞–љ–љ—Л–Љ. –°—В—А–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М – —Н—В–Њ –µ–≥–Њ –Њ—В–ї–Є—З–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М. –Ю—З–µ–љ—М, –Ї—Б—В–∞—В–Є, –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—О—Й–∞—П –Њ—В–ї–Є—З–∞—В—М –Є –Њ—Б–Љ—Л—Б–ї–Є–≤–∞—В—М —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –Ш –У—Г—В–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є —В–Њ–ґ–µ —Б—В—А–∞–љ–µ–љ. –Э–Њ – —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–є —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М—О. –Ю–љ —Б—В—А–∞–љ–µ–љ —В–µ–Љ, —З—В–Њ –љ–Њ—А–Љ–∞–ї–µ–љ. –Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Њ–љ –љ–µ –њ–Њ—Н—В? –Ю–љ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–µ–љ, –Ї–Њ—А—А–µ–Ї—В–µ–љ, —Г–Љ–µ–љ. –Ч–љ–∞–µ—В –Љ–µ—А—Г, –Ј–љ–∞–µ—В —Ж–µ–љ—Г. –Ы—О–±–Є–Љ –Є —Г–≤–∞–ґ–∞–µ–Љ. –Ь–љ–Њ–≥–Њ–µ —Г—Б–њ–µ–ї. –Ф–∞–ґ–µ –њ–Њ–і–≤–µ—Б—В–Є –њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Є—В–Њ–≥–Є – —Б–≤–µ–і—П –ї—Г—З—И–µ–µ –Є–Ј –Є–Љ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ –µ–і–Є–љ—Л–є «–°–≤–Њ–і»6. –Ш–ї–Є, –Ї–∞–Ї —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –±—Л –і—Г–Љ–∞—В—М, –њ–Њ–і –µ–і–Є–љ—Л–є –°–≤–Њ–і. –Т –Ї–љ–Є–≥–µ –і–≤–∞ —А–∞–Ј–і–µ–ї–∞ – –і–≤–µ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Н–Љ–∞–љ–∞—Ж–Є–Є –µ–≥–Њ «–ѓ»: «Alter ego» –Є «Tertius ego» - —Б—В–Є—Е–Є –Є –њ—А–Њ–Ј–∞. –°—В–Є—Е–Є —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ—Л –њ–Њ –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–∞–Љ –Є –њ—А–Њ–Ї–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л. –Ъ–∞–Ї –≤ –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–µ –Є–ї–Є –≤ –Љ—Г–Ј–µ–µ. –Я–µ—А–≤—Л–є –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї – «–Ч–∞—З–Є–љ—Л –Є —Д–Є–љ–∞–ї—Л». –Ю—З–µ–љ—М –њ—А–µ–Ј–µ–љ—В–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ. –Я–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞–Љ —А–Є—В–Њ—А–Є–Ї–Є, —Б–∞–Љ–Њ–µ —Б–Є–ї—М–љ–Њ–µ —Б—В–∞–≤–Є—В—Б—П –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ –Є –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П. –Т–Њ—В –∞–≤—В–Њ—А –Є –≤–Ј—П–ї –Є–Ј —Б–≤–Њ–Є—Е –њ—А–µ–ґ–љ–Є—Е —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї–Њ–≤, –∞ –Є—Е —Г –љ–µ–≥–Њ —И–µ—Б—В—М, –љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Л–µ –Є —Д–Є–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П. –Т—Л—Б—В—А–Њ–Є–ї–∞—Б—М –≥—А—П–і–∞ –≤–µ—А—И–Є–љ, –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–∞—О—Й–Є—Е –Ї –≤–Њ—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—О. –Я–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Е—А–µ–±–µ—В, –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–љ—Л–є –≤–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Є –≤ —Б–ї–Њ–≤–µ—Б–љ–Њ–Љ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–µ. –°–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї – «–Ю—В –С–Њ–≥–∞». –Э–Њ –љ–µ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ–і—Г–Љ–∞—В—М, –∞ –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В –∞–≤—В–Њ—А. –°–µ–Љ–∞–љ—В–Є–Ї–∞ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П –і–≤–Њ–Є—В—Б—П: –Ј–≤—Г—З–Є—В –µ–≤–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–Є, –љ–Њ —Б–ї—Л—И–Є—В—Б—П: «–Ю—В –≤–Є–љ—В–∞!» –Ф–∞–ї–µ–µ – «–Т —Н–Љ–њ–Є—А–µ—П—Е» - —Б—В–Є—Е–Є –Њ –ї—О–±–≤–Є. –Ю—В–і–µ–ї—М–љ—Л–є –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ «–ѓ –±—Л–ї –љ–∞ —А–Њ–і–Є–љ–µ –ї—О–±–≤–Є…» - –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, –њ–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –≤–Є–Ј–Є—В–Ї–∞ –∞–≤—В–Њ—А–∞:
–≠—В–Њ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ –і–∞–ґ–µ —Б—В–∞–ї–Њ —В–µ–Љ–Њ–є –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є —Д–Є–ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ—Н–Љ—Л «–Ю–њ—Л—В—Л —З—В–µ–љ–Є—П» - –Њ —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї —Б–ї–µ–і—Г–µ—В —З–Є—В–∞—В—М —Н—В–Њ—В —В–µ–Ї—Б—В:
–Т—Б–µ–≥–Њ –≤ –Ї–љ–Є–≥–µ 12 —В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–ї–Њ—З–µ–Ї. –Ъ—А–Њ–Љ–µ –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е – «–Ь–љ–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—П», «–Ь–Њ—П –Љ–Њ–≤–∞» (—Б—В–Є—Е–Є –љ–∞ —Г–Ї—А–∞–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ), «–Э–∞ –Ї—А–Њ–Љ–Ї–µ –Ъ—А—Л–Љ–∞», «–Я–Њ–і –≥–Є—В–∞—А—Г», «–Я—А–Њ—Й–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ–≥–Њ», «–°–љ—Л –≤–Њ —Б–љ–µ –Є –љ–∞—П–≤—Г», «–°—В–Њ–Є—Ж–Є–Ј–Љ». –Р –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ – –Є–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—П –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П: 7 —В–µ–Ј–Є—Б–Њ–≤, 2 –њ–Њ—Б—В—Б–Ї—А–Є–њ—В—Г–Љ–∞, 1 –њ—А–µ–∞–Љ–±—Г–ї–∞. –Т—Л—Б—В—А–Њ–Є–≤ —Б–≤–Њ—О –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж—Г –≤ –љ–µ–±–Њ –Є –≤–Ј–Њ–є–і—П –њ–Њ –µ–µ —Б—В—Г–њ–µ–љ—П–Љ (–Њ—В —З–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Ї –Њ–±—Й–µ–Љ—Г), –∞–≤—В–Њ—А –љ–µ –Ј–∞–±—Л–ї –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Њ—В–±—А–Њ—Б–Є—В—М –µ–µ –љ–µ–±—А–µ–ґ–љ—Л–Љ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ – –Є —Н—В–Њ, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, —Б–∞–Љ—Л–є –≤–∞–ґ–љ—Л–є –Є–Ј –µ–≥–Њ —В–µ–Ј–Є—Б–Њ–≤. –Я—А–Њ–Ј–∞… –Ю—З–µ–љ—М —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л –і–≤–∞ –њ—А–µ–і—Г–≤–µ–і–Њ–Љ–ї–µ–љ–Є—П. –Я–µ—А–≤–Њ–µ: «–Т—Б–µ, –Њ —З–µ–Љ –і–∞–ї–µ–µ –њ–Њ–є–і–µ—В —А–µ—З—М, —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–Љ –њ–ї–Њ–і–Њ–Љ –Љ–Њ–µ–є –≤–Њ—Б–њ–∞–ї–µ–љ–љ–Њ–є —Д–∞–љ—В–∞–Ј–Є–Є…» –Т—В–Њ—А–Њ–µ: «–Т—Б–µ, –Њ —З–µ–Љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П, - —З–Є—Б—В–∞—П –њ—А–∞–≤–і–∞…» –І—В–Њ –Є–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М – —Б—Г–і–Є—В—М –љ–µ –±–µ—А—Г—Б—М. –Т –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ –≤–µ–Ї–µ —П –±—Л —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –і–ї—П —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –њ—А–Њ–Ј—Л –≤ –љ–µ–є —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ–њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–љ–љ–Њ–є –њ—А–Њ–Ј—Л –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Р –≤ –њ–Њ–Ј–∞–њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ –≤–µ–Ї–µ —П –±—Л —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –≤ –љ–µ–є —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ–њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –∞–≤—В–Њ—А–∞. –Э–Њ –≤ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ—Б–ї–Њ–≤–Є–Є –Ї –њ–Њ–≤–µ—Б—В–Є –љ–µ–њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–љ–љ—Л–є –∞–≤—В–Њ—А —А–µ—И–∞–µ—В —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є –њ–Њ—Б–њ–Њ—А–Є—В—М, –Є –Љ–љ–µ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П, –Ї–∞–Ї —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—В—М—Б—П —Б –љ–Є–Љ:
- –°–Ї–∞–ґ–Є—В–µ, - —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –Я—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А, - –∞ –і–ї—П —З–µ–≥–Њ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –≤—Л –≤—Б–µ —Н—В–Њ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї–Є? - –Ф–∞! – —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї—М. - –Х—Б–ї–Є —П –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О, - –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї —П, –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–µ–і–ї–Є–≤, - –≤—Л –Є–Љ–µ–µ—В–µ –≤ –≤–Є–і—Г, —З—В–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–∞ —Б–∞–Љ–∞ –њ–Њ —Б–µ–±–µ –Є –љ–µ –љ—Г–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –љ–Є –≤ –Ї–∞–Ї–Є—Е –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П—Е. –Э–Њ —П –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –і–µ–ї–∞—О –њ—А–Њ—Б—В–Њ —В–∞–Ї. –Ш —В–µ–њ–µ—А—М —В–Њ—З–љ–Њ –Ј–љ–∞—О, –Ї—В–Њ –њ—А–Њ—В—П–љ–µ—В –Љ–љ–µ —А—Г–Ї–Є –≤ –Љ–Њ–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П. –Ъ—В–Њ –±—Г–і–µ—В –Ј–≤–∞—В—М –Љ–µ–љ—П –Ј–∞ —Б–Њ–±–Њ—О –Є –Ї—Г–і–∞. –Ш —З—В–Њ —Г—Е–Њ–і–Є—В—М —П –±—Г–і—Г –ї–µ–≥–Ї–Њ –Є —А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ. –Я—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А –Ј–∞–і—Г–Љ–∞–ї—Б—П. - –Э–µ —Е–Њ—З—Г –≤—Л–≥–ї—П–і–µ—В—М –љ–∞–≤—П–Ј—З–Є–≤—Л–Љ, –љ–Њ –љ–µ –љ–∞–є–і–µ—В—Б—П –ї–Є –≤ –≤–∞—И–µ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Љ–µ—Б—В–µ—З–Ї–∞ –і–ї—П –µ—Й–µ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–∞? - –Т–Њ—В, –≤–Њ—В! – —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї—М. 6 –У—Г—В–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Т. –°–≤–Њ–і. – –°–Я–±.: –Р–ї–µ—В–µ–є—П, 2011. – 247 —Б.
–Т –°–Т–Ю–Х–Ь –Ю–Ґ–Х–І–Х–°–Ґ–Т–Х
–Р —В–µ–њ–µ—А—М –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤—М—В–µ, —З—В–Њ —В–∞–Ї–∞—П –Ї–љ–Є–≥–∞ –њ–Є—И–µ—В—Б—П –Є –Є–Ј–і–∞–µ—В—Б—П –≤ —В–≤–Њ–µ–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–µ. –Т —В–∞–Ї–Њ–є –ґ–µ, –њ–Њ–і —Б—В–∞—А–Є–љ—Г, –Њ–±–ї–Њ–ґ–Ї–µ, —Б —В–∞–Ї–Є–Љ–Є –ґ–µ –≤–µ—З–љ—Л–Љ–Є —В–µ–Љ–∞–Љ–Є. –Ш –Њ–Ј–∞–≥–ї–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –њ–Њ–і–Њ–±–∞—О—Й–µ: «–Ъ–Э–Ш–У–Р»7. –Э–µ—В –ї–Є –Ј–і–µ—Б—М –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –њ–Њ–і–≤–Њ—Е–∞, –њ–Њ–і—К–µ—Е–∞, –њ—А–Є–Ї–Њ–ї–∞, —Б–Є–Љ—Г–ї—П–Ї—А–∞? –Ю—В–Ї—А—Л–≤–∞—О. –І–Є—В–∞—О. –Я–µ—А–≤—Г—О —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж—Г, –≤—В–Њ—А—Г—О, —В—А–µ—В—М—О… –Т—А–Њ–і–µ –≤—Б–µ –њ–Њ-–љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ—Г…
–Т –Ї–љ–Є–≥–µ –і–µ—Б—П—В—М —З–∞—Б—В–µ–є. –Т—Б–µ –≤–∞–ґ–љ—Л–µ: «–Т–Ю–Я–†–Ю–°–Ђ», «–°–Ю–Э –†–Р–Ч–£–Ь–Р», «–†–Х–Ъ–Р», «–†–Ю–Ы–Ш», «–Ь–Р–Ь–Ь–Ю–Э–Р», «–Э–Х–Я–Ю–У–Ю–Ф–Р», «–С–Ю–Ц–ђ–Ш –Ф–£–Ф–Ъ–Ш», «–°–Ю–С–Ю–†–Э–Ю–°–Ґ–ђ», «–Я–Ю–°–Ю–•», «–С–Х–†–Х–У». –°—В—А–∞–љ–Є—Ж – –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ґ–µ, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є –≤ —В–Њ–є, –і—А–µ–≤–љ–µ–є, –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є «–Ъ–љ–Є–≥–µ». –І—В–Њ –ґ–µ —Б–Љ—Г—Й–∞–µ—В? –І—В–Њ –≤ —В–≤–Њ–µ–Љ –±–µ–і–љ–Њ–Љ –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –њ—А–Њ—А–Њ–Ї–Њ–≤? –Я—А–Є–≥–ї–∞—И–∞—О –∞–≤—В–Њ—А–∞ –њ—А–Є–є—В–Є. –Ъ –љ–∞—А–Њ–і—Г, —В–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М. –Т—А–∞–Ј—Г–Љ–Є—В—М, –Ї—В–Њ –≤–Њ–Ј–ґ–µ–ї–∞–µ—В. –Я—А–Є—Е–Њ–і–Є—В. –° –≤–Є–і—Г – –Є –≤–њ—А—П–Љ—М –њ—А–Њ—А–Њ–Ї: –±–Њ—А–Њ–і–∞, –≤–Ј–≥–ї—П–і. –Р –њ—А–Њ—А–Њ–Ї –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Љ—Г–і—А – –љ–µ —Б—В–∞–ї —З–Є—В–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є –њ—А–Њ—А–Њ—З–µ—Б—В–≤–∞. –Я—А–Њ—Б—В–Њ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ —Б–µ–±–µ. –Ш —Б–ї—Г—И–∞–ї–Є! - –Ы–µ–ґ—Г —П —Н—В–Њ, –Ј–љ–∞—З–Є—В, –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л, –Ї–∞–Ї –Њ–±—Л—З–љ–Њ, –љ–∞ –і–Є–≤–∞–љ–µ, —Б–ї—Г—И–∞—О, –Ї–∞–Ї —А–∞—Б—В–µ—В –Љ–Њ—П –±–Њ—А–Њ–і–∞, –Є –њ–Њ–і—Г–Љ—Л–≤–∞—О: —З–µ–Љ –±—Л —Б–µ–±—П —В–∞–Ї–Є–Љ —Г–і–Є–≤–Є—В—М. –І—В–Њ –±—Л —В–∞–Ї–Њ–µ —Б–і–µ–ї–∞—В—М, —З–µ–≥–Њ —А–∞–љ—М—И–µ —П –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –і–µ–ї–∞–ї. –Ф–∞ –Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ —Б–і–µ–ї–∞—О… –Э—Г –∞, –Ї–∞–Ї –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —Г–і–Є–≤–Є—В—М —Б–µ–±—П –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –і–≤—Г–Љ—П —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–∞–Љ–Є: 1. –Т–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ—В–Ї—А—Л—В—М –Ї–∞–Ї–Њ–є-–љ–Є–±—Г–і—М –Њ—З–µ–љ—М –љ—Г–ґ–љ—Л–є –љ–∞—А–Њ–і—Г –Ј–∞–Ї–Њ–љ. –Т –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є, –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ, —Д–Є–Ј–Є–Ї–Є. –Ъ –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г, –Ј–∞–Ї–Њ–љ –Ю–Љ–∞. –Ш –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М –µ–≥–Њ, –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —Б–≤–Њ–Є–Љ –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ. «–Р —З—В–Њ, – –і—Г–Љ–∞—О, – –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ. –Ю—В–Ї—А–Њ—О – –њ—Г—Б—В—М —Б–µ–±–µ –ї—О–і–Є –њ–Њ–ї—М–Ј—Г—О—В—Б—П, —Г–Љ–љ–Њ–ґ–∞—О—В –≤—Б—П–Ї–Є–µ —В–∞–Љ –≤–Њ–ї—М—В—Л –Є–ї–Є, —Б–Ї–∞–ґ–µ–Љ, –∞–Љ–њ–µ—А—Л, – –Љ–µ–љ—П –і–Њ–±—А—Л–Љ —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ –њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В. –Э—Г –Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ… –Ч–∞–Ї–Њ–љ –≤—Б—С-—В–∞–Ї–Є…» 2. –Т—В–Њ—А–Њ–є —Б–њ–Њ—Б–Њ–± – —Н—В–Њ –љ–∞–њ–Є—Б–∞—В—М —В–Њ–ї—Б—В—Г—О –Ї–љ–Є–≥—Г –≤ –ї–µ–і–µ—А–Є–љ–Њ–≤–Њ–Љ –њ–µ—А–µ–њ–ї–µ—В–µ. –Р –≤ –Ї–љ–Є–≥–µ –Њ—В–≤–µ—В–Є—В—М –љ–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л – –љ–∞ —Б–∞–Љ—Л–µ –Љ—Г—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ, —Б–∞–Љ—Л–µ —Б—В—А–∞—И–љ—Л–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л. –Э—Г —В–∞–Ї–Є–µ – –њ—А—П–Љ–Њ —Б–∞–Љ—Л–µ- —Б–∞–Љ—Л–µ. –Ф–Њ—Б–≤–µ—А–ї–Є—В—М –і–Њ –љ–µ—А–≤–∞: «–Ъ—В–Њ –≤–Є–љ–Њ–≤–∞—В?» – –Р –≤–Њ—В –Ї—В–Њ! – –Ш –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М –≤—Б–µ—Е –њ–Њ–Є–Љ–µ–љ–љ–Њ. «–І—В–Њ –і–µ–ї–∞—В—М?» – –Р –≤–Њ—В —Н—В–Њ –Є –і–µ–ї–∞—В—М! –Р —В–Њ – –љ–Є –≤ –Ї–Њ–µ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ!… «–Ъ—Г–і–∞ –±–µ–ґ–∞—В—М?» – –Ф–∞ —В—Г–і–∞, —В—Г–і–∞! – –Ї—Г–і–∞ –ґ –µ—Й—С!… «–У–і–µ –≤–Ј—П—В—М –і–µ–љ–µ–≥?» – –Ґ–Њ–ґ–µ —Е–Њ—А–Њ—И–Є–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б… –Э—Г, –Є —В–∞–Ї –і–∞–ї–µ–µ… –° –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–Љ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–Є —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞—В—М—Б—П. –І—В–Њ —В–∞–Љ, –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї–Є —Г–ґ–µ –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ, –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤, –Є–ї–Є —В–∞–Ї –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А? –Х—Б–ї–Є –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А, —В–Њ –Ї–∞–Ї –ґ–µ —В–∞–Ї? –Э–∞–і–Њ –њ–Њ–Љ–Њ—З—М… –Т–∞—А–Є–∞–љ—В —Б –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ –Ю–Љ–∞ —П, –љ–µ –±–µ–Ј —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—П, –Њ—В–Ї–ї–Њ–љ–Є–ї. –§–∞–Љ–Є–ї–Є—П —Г –Љ–µ–љ—П –њ–Њ–і–Ї–∞—З–∞–ї–∞. «–Ч–∞–Ї–Њ–љ –Ф–µ—А–Ї–∞—З–∞»… – –љ–µ—В, –љ–µ –Ј–≤—Г—З–Є—В. –Ю–њ—П—В—М –ґ–µ, —Н–ї–µ–Ї—В—А–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ – –Њ–љ–Њ —Б—В—Г–Ї–љ—Г—В—М –Љ–Њ–ґ–µ—В. –С–Њ–ї—М–љ–Њ. –Р –≤–Њ—В –Є–і–µ—П —Б –Ї–љ–Є–≥–Њ–є, –љ—Г –љ–µ –Ј–љ–∞—О, –Ї–∞–Ї-—В–Њ —Ж–∞—А–∞–њ–љ—Г–ї–∞ –Љ–Њ—О –Њ—З–∞—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Г—О –і—Г—И—Г. «–Ф–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, – –і—Г–Љ–∞—О, – –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –±—Л –Є –љ–µ—В? –°—П–і—Г —Б–µ–±–µ –Ї–∞–Ї-–љ–Є–±—Г–і—М, –і–∞ –Є –љ–∞–њ–Є—И—Г. –Р –Љ–Њ–Є –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–µ –њ—А–Њ—З–Є—В–∞—О—В, –њ—А–Є–і—Г—В –Ї–Њ –Љ–љ–µ –≤ –≥–Њ—Б—В–Є –Є –Ї–∞–Ї –љ–∞—З–љ—Г—В —Г–і–Є–≤–ї—П—В—М—Б—П: «–Р—Е, – —Б–Ї–∞–ґ—Г—В, – –Љ—Л –і—Г–Љ–∞–ї–Є: —В—Л –њ—А–Њ—Б—В–Њ —В–∞–Ї – –Ф–µ—А–Ї–∞—З –Є –≤—Б—С, –∞ —В—Л –µ—Й—С –≤–Њ–љ —З–µ–≥–Њ…» –Р —П –≤ –Њ—В–≤–µ—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г—Б—В–∞–ї–Њ —Г–ї—Л–±–љ—Г—Б—М –Є —Б–Ї–∞–ґ—Г, –Ї–∞–Ї –±—Л –±–µ–Ј—А–∞–Ј–ї–Є—З–љ–Њ –Є –і–∞–ґ–µ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—З–∞–ї—М–љ–Њ: «–Ф–∞ —З–µ–≥–Њ —В–∞–Љ, –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–µ—И—М, – –Ї–љ–Є–≥–∞… –Х—А—Г–љ–і–∞ –Ї–∞–Ї–∞—П…» – –Є –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ—Г –≤—Б–µ–Љ –≤—Л–њ–Є—В—М –≤–Њ–і–Ї–Є. –Ш –≤—Б–µ —Б—А–∞–Ј—Г –њ–Њ–є–Љ—Г—В, —З—В–Њ —П, —Е–Њ—В—П –Є —Б–Ї—А–Њ–Љ–љ—Л–є, –љ–Њ –Ј–∞—В–Њ —Г–ґ–∞—Б–љ–Њ —Г–Љ–љ—Л–є… –Ш –≤–Њ–Њ–±—Й–µ, –Ї–љ–Є–≥–∞ –≤ –і–Њ–Љ–µ –љ—Г–ґ–љ–∞. –Ф–Њ–Љ –±–µ–Ј –Ї–љ–Є–≥–Є – —З—В–Њ —В–µ–ї–Њ –±–µ–Ј –і—Г—И–Є. –Ф–µ—В–Є, –Њ–њ—П—В—М –ґ–µ, –њ–Њ–і—А–∞—Б—В—Г—В, –Є, –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ, –Ј–∞—Е–Њ—З–µ—В—Б—П –Є–Љ –њ–Њ—З–Є—В–∞—В—М. –Я—А–Є–і—Г—В —В–Њ–≥–і–∞ –Ї–Њ –Љ–љ–µ –і–µ—В–Є –Є —Б–Ї–∞–ґ—Г—В: «–Ю—В–µ—Ж. –Ь—Л, –Њ–њ—П—В—М –ґ–µ, –њ–Њ–і—А–Њ—Б–ї–Є –Є, –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ, –Ј–∞—Е–Њ—В–µ–ї–Є –њ–Њ—З–Є—В–∞—В—М. –Э–µ—В –ї–Є —Г –љ–∞—Б –≤ –і–Њ–Љ–µ –Ї–љ–Є–≥–Є?» –Ш —В–Њ–≥–і–∞ –Њ—В–≤–µ—З—Г —П –і–µ—В—П–Љ: «–Ф–µ—В–Є –Љ–Њ–Є. –≠—В–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ, —З—В–Њ –≤—Л, –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ, –Ј–∞—Е–Њ—В–µ–ї–Є –њ–Њ—З–Є—В–∞—В—М. –Ф–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, —Г –љ–∞—Б –≤ –і–Њ–Љ–µ –µ—Б—В—М –Ъ–љ–Є–≥–∞. –Т–Њ–Ј—М–Љ–Є—В–µ –µ—С. –Ю–љ–∞ –Ј–∞—Б—Г–љ—Г—В–∞ –њ–Њ–і –љ–Њ–ґ–Ї—Г –і–Є–≤–∞–љ–∞…» –Ю–є, –і–∞ –Љ–∞–ї–Њ –ї–Є! –Ъ–љ–Є–≥–∞ – —Н—В–Њ –ґ –ї—Г—З—И–Є–є –њ–Њ–і–∞—А–Њ–Ї. –Р —В–Њ –µ—Й—С –µ–є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і–∞–ґ–µ –≤—Б–µ–Љ –ї—Г—З—И–Є–Љ –≤ —Б–µ–±–µ –Њ–±—П–Ј–∞–љ—Л… –Ъ–Њ—А–Њ—З–µ. –†–µ—И–Є–ї —П –њ–Є—Б–∞—В—М –Ї–љ–Є–≥—Г. –Р –Ї–∞–Ї —А–µ—И–Є–ї, —В–∞–Ї —В—Г—В —Г–ґ –њ–Њ—И–ї–Њ- –њ–Њ–µ—Е–∞–ї–Њ-–њ–Њ–љ–µ—Б–ї–Њ—Б—М – —Н—Е, –њ—В–Є—Ж–∞-—В—А–Њ–є–Ї–∞ – —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г—Б–њ–µ–≤–∞–є –Ј–∞–њ–Є—Б—Л–≤–∞—В—М, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г—Б–њ–µ–≤–∞–є, —В–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –Љ–∞–Ї–∞—В—М –њ–µ—А–Њ –≤ –і—Л–Љ—П—Й—Г—О—Б—П –Ї—А–Њ–≤—М. –Ш –љ–Є —Б–љ–∞ —В–µ–±–µ, –љ–Є –њ–Њ–Ї–Њ—П. –Т–µ—Б—С–ї–µ–љ—М–Ї–Њ–µ —Н—В–Њ, –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –і–µ–ї–Њ – –њ–Є—Б–∞—В—М –Ї–љ–Є–≥—Г. –Ы–µ–ґ–Є—И—М, –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ, –љ–∞ –њ–ї—П–ґ–µ. –†–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ—И—М –Ј–∞–≥–Њ—А–µ–ї—Л–µ –њ—Г–њ–Ї–Є –Є –≤—Б—П–Ї–Є–µ —В–∞–Ї–Є–µ –і—А—Г–≥–Є–µ –ї—О–±–Њ–њ—Л—В–љ—Л–µ —И—В—Г—З–Ї–Є, –∞ –Љ–Њ–Ј–≥ – –љ–µ—В, –љ–µ –Њ—В–і—Л—Е–∞–µ—В. –Р–љ–∞–ї–Є–Ј–Є—А—Г–µ—В, –њ—А–Є—Б–ї—Г—И–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Ї —Б–µ–±–µ: «–Р —З—В–Њ, –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П —В–∞–Љ —Г –Љ–µ–љ—П –Ї—Г–љ–і–∞–ї–Є–љ–Є –Є–ї–Є –љ–µ –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П? –Р –µ—Б–ї–Є –і–∞, —В–Њ –і–Њ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–∞–Ї–Њ–є —З–∞–Ї—А—Л?» – –Ш —Б—В–∞–≤–Є—В –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л – –Њ–і–Є–љ —Б—В—А–∞—И–љ–µ–µ –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ. –Т–Њ–њ—А–Њ—Б—Л —Б–∞–Ї—А–∞–ї—М–љ—Л–µ, –ґ—Г—В–Ї–Є–µ, –±–µ–Ј–і–Њ–љ–љ—Л–µ… «–°–њ–Њ—Б–Њ–±–µ–љ –ї–Є –Љ–Њ–є –Ы–Њ–≥–Њ—Б –њ–µ—А–µ—Б–µ—З—М –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л —В—А–∞–љ—Б—Ж–µ–љ–і–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є? – –Ф–∞. –°–њ–Њ—Б–Њ–±–µ–љ. – –Р –Ї–∞–Ї –љ–∞–Ј–∞–і? –Ъ–∞–Ї –±—Л—В—М —Б –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–Њ–Љ? –Ъ–∞–Ї –±—Л—В—М, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, —Б —З–µ—В–≤–µ—А—В–Њ–є –±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і–љ–Њ–є –Є—Б—В–Є–љ–Њ–є?»… –Ш–ї–Є, –Ї –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г. –Ъ–Њ–њ–∞–µ—И—М –Њ–≥–Њ—А–Њ–і. –Т–Њ–љ–Ј–∞–µ—И—М —И—В—Л–Ї–Њ–≤—Г—О –ї–Њ–њ–∞—В—Г –≤ —А–Њ–і–љ–Њ–є —П—Б–Є–љ–Њ–≤–∞—В—Б–Ї–Є–є —З–µ—А–љ–Њ–Ј—С–Љ, –∞ —В—Г—В –Љ—Л—Б–ї—М – –±–∞—Ж! «–Э–µ—В, –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, —З—В–Њ–±—Л –≥–љ–Њ—Б–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ—А–љ–Є —А–µ–ї—П—В–Є–≤–Є–Ј–Љ–∞ –±—Л–ї–Є –≤ —Б—Е–Њ–ї–∞—Б—В–Є–Ї–µ! –Э–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В!!!» – –Ґ—Г—В –ґ–µ –њ—А–Њ–≤–µ—А—П–µ—И—М… – –Ґ–Њ—З–љ–Њ. –Э–µ—В –Ї–Њ—А–љ–µ–є. –Э–Є-–Ї–∞-–Ї–Є—Е! –Ф–∞ —З—В–Њ —В–∞–Љ –Ї–Њ—А–љ–Є! –°–Є–і–Є—И—М, –њ—М–µ—И—М –њ–Є–≤–Њ, –∞ –њ—А–Њ–Ї–ї—П—В—Л–є –≥–∞–Љ–ї–µ—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б – —В—Г—В –Ї–∞–Ї —В—Г—В. –¶–∞–њ-—Ж–∞—А–∞–њ: «Two beer –Є–ї–Є –љ–µ two beer?» –Я—А—П–Љ–Њ –Љ—Г—З–Є—В, –њ—А—П–Љ–Њ – —В—А–µ–±—Г–µ—В —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П. –Ш —В–µ–љ—М –Њ—В—Ж–∞ –У–∞–Љ–ї–µ—В–∞ –љ–µ–Љ—Л–Љ —Г–Ї–Њ—А–Њ–Љ –≤—Б—В–∞–µ—В –Ј–∞ —Б–њ–Є–љ–Њ–є –Є –ї–µ–≥–Њ–љ—М–Ї–Њ —В–∞–Ї –њ–Њ–і—В–∞–ї–Ї–Є–≤–∞–µ—В: «–Ґ—Г –±–Є, –Љ–Є–ї—Л–є, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ —В—Г –±–Є», – –і–∞–≤–∞–є, –Љ–Њ–ї, –Є–і–Є. –Т—Б—В–∞–љ—М –Є –Є–і–Є. –Ґ–∞–ї–Є—Д–∞ –Ї—Г–Љ–Є. –Ш–і–Є, –Љ—Л—Б–ї—П—Й–Є–є —В—А–Њ—Б—В–љ–Є–Ї, –Є–і–Є, –њ—В–Є—Ж–∞ –±–µ–Ј –њ–µ—А—М–µ–≤. –Ш–і–Є –≤ —Б–ї—С–Ј—Л –Є –≤–Њ—Б—Е–Є—Й–µ–љ–Є–µ. –Ш–і–Є –≤ –±–ї–∞–ґ–µ–љ—Б—В–≤–Њ –Є –±–Њ–ї—М –њ—А–Њ–Ј—А–µ–љ–Є—П, –Є –њ—Г—Б—В—М –∞–љ–≥–µ–ї—Л –Ї–ї—О—О—В —Г —В–µ–±—П –Є–Ј –ї–∞–і–Њ–љ–Є… –Ш–і–Є…» – –Э—Г —З—В–Њ? –Ш–і–µ—И—М, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ… –Ґ–∞–Ї–Є–µ –і–µ–ї–∞… –Э–Њ –±—Л–≤–∞–µ—В –Є —В–∞–Ї: –Є—Й–µ—И—М-–Є—Й–µ—И—М, —З–µ–≥–Њ –±—Л –ї—П–њ–љ—Г—В—М –њ–Њ–Љ—Г–і—А–µ–љ–µ–µ, –Є –≤–і—А—Г–≥ – —В—Г–њ–Є–Ї. –°—В–Њ–њ… –І—В–Њ –і–µ–ї–∞—В—М? – –Р –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ —З—В–Њ: –љ–∞–і–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–Њ–≤–∞—В—М—Б—П —Б –љ–∞—А–Њ–і–Њ–Љ. –Э–∞—А–Њ–і – –Њ–љ —Г–Љ–љ—Л–є. –Ю–љ –њ–∞—И–µ—В –Ј–µ–Љ–ї—О, —Е–Њ–і–Є—В –±–Њ—Б–Є–Ї–Њ–Љ –Є –Њ–±–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –≤–Њ–і–Њ–є. –Э–∞—А–Њ–і… –°–Є–і–Є—В —Б–µ–±–µ –љ–∞ –Ј–∞–≤–∞–ї–Є–љ–Ї–µ, –ґ–і–µ—В –њ–Њ–Ї–∞ –Њ—Б—В—Л–љ–µ—В —Б–Њ—Е–∞, —Б–∞–Љ —В–∞–Ї –ї—Г–Ї–∞–≤–Њ —Г—Б–Љ–µ—Е–∞–µ—В—Б—П –≤ –±–Њ—А–Њ–і—Г. –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ –Ї–∞–Ї –Њ—В–Љ–Њ—З–Є—В —З–µ–≥–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Ј–∞–є–і–µ—В—Б—П –љ–∞ –±–∞–ї–∞–ї–∞–є–Ї–µ –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ–Њ–є –Љ–µ–ї–Њ–і–Є–µ–є –Ы.–Т.–С–µ—В—Е–Њ–≤–µ–љ–∞ «–°–Њ–љ–∞—В–∞ вДЦ14, —Б–Њ—З. 27, вДЦ2, –і–Њ-–і–Є–µ–Ј –Љ–Є–љ–Њ—А». –Ш–ї–Є –≤–і—А—Г–≥ –љ–∞—В—А–µ—В –Ї—А–∞—Б–Њ–Ї –Є –љ–∞–Љ–∞–ї—О–µ—В –Љ–∞—Б–ї–Њ–Љ –љ–∞ —Е–Њ–ї—Б—В–µ –Ї–Њ–±–∞–ї—М—В–Њ–≤–Њ-—Б–Є–љ–Є–є –ї—Г–≥. –Р –љ–∞ –љ–µ–Љ –љ–µ–ї–µ–њ—Г—О –Ї—А–∞—Б–љ—Г—О –Ї–Њ—А–Њ–≤—Г —Б –±–µ–Ј–і–Њ–љ–љ—Л–Љ–Є, –Ї–∞–Ї –љ–µ–±–Њ, –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є. –Ш –≤–µ–Ї–Њ–≤–∞—П —В–Њ—Б–Ї–∞ —В—А–∞–≤–Њ—П–і–љ–Њ–≥–Њ –±—Г–і–µ—В –≤ —В–µ—Е –≥–ї–∞–Ј–∞—Е, –Є –љ–µ–Є–Ј–±—Л–≤–љ–∞—П –µ–≥–Њ –±–Њ–ї—М… –Р —В–Њ —А–∞–Ј–≥–ї–∞–і–Є—В –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ–љ–µ –Ї–ї–Њ—З–Њ–Ї –±—Г–Љ–∞–≥–Є –Є —Б—В–∞–љ–µ—В –Њ–≥—А—Л–Ј–Ї–Њ–Љ –Ї–∞—А–∞–љ–і–∞—И–∞ –њ–Є—Б–∞—В—М —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г —Б–µ–±–µ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ. –Я–Є—Б—М–Љ–Њ –і–ї–Є–љ–Њ—О –≤ —Ж–µ–ї—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М. –Я–Є—Б—М–Љ–Њ –Њ –≤—Б–µ–Љ–Њ–≥—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ –Є –±–µ—Б—Б–Є–ї–Є–Є —Б–ї–Њ–≤. –Ш –±—Г–і–µ—В —Г —Н—В–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –љ–∞—З–∞–ї–Њ, –љ–Њ –љ–µ –±—Г–і–µ—В –Ї–Њ–љ—Ж–∞…
–Т –Љ–Є—А—Г –Њ–љ —Д–Њ—В–Њ—Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї –Є –Ї–Є–љ–Њ–Њ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А. –Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л —П –≤–Є–і–µ–ї, –Ї–∞–Ї –Њ–љ —А–∞–±–Њ—В–∞–µ—В. –Э–Є —Б–ї–Њ–≤–∞ –ї–Є—И–љ–µ–≥–Њ. –°–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–µ–љ–љ–Њ, –±–µ–Ј —Б—Г–µ—В—Л. –Ю–љ —Б–љ–Є–Љ–∞–ї —Д–Є–ї—М–Љ –Њ –і—А–µ–≤–љ–µ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Ї—А–∞—П. –° —А–µ–ґ–Є—Б—Б–µ—А–Њ–Љ –°–µ—А–≥–µ–µ–Љ –®–∞—В–∞–ї–Њ–≤—Л–Љ –Љ—Л –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї–Є –љ–∞ –Ъ–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –Ь–Њ–≥–Є–ї—Л, —З—В–Њ–±—Л –Ј–∞—Б–љ—П—В—М –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В–Њ–≤. –≠—В–Њ, –Ї—В–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞–µ—В, —Г–Ї—А–∞–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Р—А–Ї–∞–Є–Љ. –°—В–µ–њ–љ–Њ–є –°—В–Њ—Г–љ—Е–µ–љ–і–ґ. –Ш —В–Њ–≥–і–∞ —П –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї, —З—В–Њ —В—Г—В —Б–∞–Љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –і–ї—П –∞–≤—В–Њ—А–∞ «–Ъ–љ–Є–≥–Є». –°—А–µ–і–Є –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –±–∞–±. –£–ґ –Њ–љ–Є-—В–Њ —Г—Б–ї—Л—И–∞—В –Є –њ–Њ–є–Љ—Г—В. –Э–Њ —Г –љ–µ–≥–Њ, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –љ–µ—В –Є–ї–ї—О–Ј–Є–є –љ–∞—Б—З–µ—В –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П, –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є—П, –і–µ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –µ–≥–Њ –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–Є–є… –І–Є—В–∞—О –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є, 323-–є —Б—В–Є—Е – –і–ї–Є–љ–љ–Њ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –Є –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–є, –Ј–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—Й–Є–є—Б—П —В–µ–Ї—Б—В:
–°–Ґ–Ш–• –°CCXXIII, –Ч–Р–Ъ–Ы–Ѓ–І–Ш–Ґ–Х–Ы–ђ–Э–Ђ–Щ
7 –Ф–µ—А–Ї–∞—З –Р. –Ъ–љ–Є–≥–∞ / 5-–µ –Є–Ј–і., –њ–µ—А–µ—А–∞–±. –Є –і–Њ–њ. – [–Ф–Њ–љ–µ—Ж–Ї, 2009]. – 464 —Б.
–Ю—В–Ї—А—Л–≤–∞—О –љ–∞—Г–≥–∞–і – —З–µ–Љ —Б–µ—А–і—Ж–µ —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є—В—Б—П?
–Р.–Ъ.
|
|
–Я—А–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ –Є–ї–Є —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ–Љ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ —Б—Б—Л–ї–Ї–∞ –љ–∞
–Ш–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ-—Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –ґ—Г—А–љ–∞–ї "–Ф–Є–Ї–Њ–µ –њ–Њ–ї–µ. –Ф–Њ–љ–µ—Ж–Ї–Є–є –њ—А–Њ–µ–Ї—В"
–Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–∞. Copyright © 2005 - 2006 –Ф–Є–Ї–Њ–µ –њ–Њ–ї–µ Development © 2005 Programilla.com |
–£–Ї—А–∞–Є–љ–∞ –Ф–Њ–љ–µ—Ж–Ї 83096 –њ—А-–Ї—В –Ь–∞—В—А–Њ—Б–Њ–≤–∞ 25/12 –†–µ–і–∞–Ї—Ж–Є—П –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞ ¬Ђ–Ф–Є–Ї–Њ–µ –њ–Њ–ї–µ¬ї 8(062)385-49-87 –У–ї–∞–≤–љ—Л–є —А–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А –Ъ–Њ—А–∞–±–ї–µ–≤ –Р.–Р. Administration, Moderation –Ф–µ–≥—В—П—А—З—Г–Ї –°.–Т. Only for Administration |
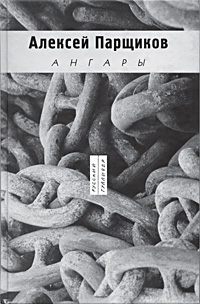 –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –њ—А–Є—Б–ї–∞–ї –і–≤–µ –Ї–љ–Є–≥–Є – «–Р–љ–≥–∞—А—Л»1 –Є «–†–∞–є –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–≥–љ—П»2, –Њ–±–µ –Є–Ј–і–∞–љ—Л –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ. –Ґ–∞–Ї —З—В–Њ –Є—Е –Љ–∞—А—И—А—Г—В – –Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞-–Ъ—С–ї—М–љ-–Ф–Њ–љ–µ—Ж–Ї.
–Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –њ—А–Є—Б–ї–∞–ї –і–≤–µ –Ї–љ–Є–≥–Є – «–Р–љ–≥–∞—А—Л»1 –Є «–†–∞–є –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–≥–љ—П»2, –Њ–±–µ –Є–Ј–і–∞–љ—Л –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ. –Ґ–∞–Ї —З—В–Њ –Є—Е –Љ–∞—А—И—А—Г—В – –Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞-–Ъ—С–ї—М–љ-–Ф–Њ–љ–µ—Ж–Ї.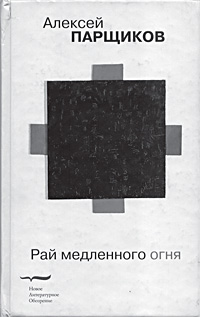 –¶–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М –Є —А–Є—В–Љ–Є–Ї–∞ —Н—В–Є—Е –Ї–љ–Є–≥ –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–µ—В—Б—П —Б–Њ–њ—А–Є—А–Њ–і–љ–Њ—Б—В—М—О –µ–≥–Њ –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є –Є —Н—Б—Б–µ–Є—Б—В–Є–Ї–Є. –Я–Њ—П—Б–љ—О, —Е–Њ—В—М —Н—В–Њ –Є –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ.
–¶–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М –Є —А–Є—В–Љ–Є–Ї–∞ —Н—В–Є—Е –Ї–љ–Є–≥ –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–µ—В—Б—П —Б–Њ–њ—А–Є—А–Њ–і–љ–Њ—Б—В—М—О –µ–≥–Њ –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є –Є —Н—Б—Б–µ–Є—Б—В–Є–Ї–Є. –Я–Њ—П—Б–љ—О, —Е–Њ—В—М —Н—В–Њ –Є –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ. –Ф—А—Г–≥–∞—П –Ї–µ–ї—М–љ—Б–Ї–∞—П –њ—А–Є—Б—Л–ї–Ї–∞ —В–Њ–є –ґ–µ —В–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є: —Н–њ–Є—Б—В–Њ–ї—П—А–љ—Л–є —А–Њ–Љ–∞–љ –Ф–µ–Љ—М—П–љ–∞ –§–∞–љ—И–µ–ї—П «–Ь–µ–є–ї»3. –Ъ–Њ—А—А–µ—Б–њ–Њ–љ–і–µ–љ—В –Є, —Б—В–∞–ї–Њ –±—Л—В—М, –µ–≥–Њ —Б–Њ–∞–≤—В–Њ—А – –Ь–∞—А–Є—П –Ъ–∞–Љ–µ–љ–Ї–Њ–≤–Є—З.
–Ф—А—Г–≥–∞—П –Ї–µ–ї—М–љ—Б–Ї–∞—П –њ—А–Є—Б—Л–ї–Ї–∞ —В–Њ–є –ґ–µ —В–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є: —Н–њ–Є—Б—В–Њ–ї—П—А–љ—Л–є —А–Њ–Љ–∞–љ –Ф–µ–Љ—М—П–љ–∞ –§–∞–љ—И–µ–ї—П «–Ь–µ–є–ї»3. –Ъ–Њ—А—А–µ—Б–њ–Њ–љ–і–µ–љ—В –Є, —Б—В–∞–ї–Њ –±—Л—В—М, –µ–≥–Њ —Б–Њ–∞–≤—В–Њ—А – –Ь–∞—А–Є—П –Ъ–∞–Љ–µ–љ–Ї–Њ–≤–Є—З. –Э–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –њ–µ—Б–µ–љ–љ–Њ-—Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї–∞ –њ–Њ—Б—В—Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–µ: «–®–µ—Б—В—М –±–µ–Ј—Г–і–∞—А–љ—Л—Е –њ—П—В–Є–ї–µ—В–Њ–Ї» . –Э–µ –≤—Б–µ —Г–ґ–µ, –њ–Њ–і–Є, –њ–Њ–Љ–љ—П—В, —З—В–Њ —Б—В—А–∞–љ–∞ –ґ–Є–ї–∞ –њ–ї–∞–љ–Њ–≤–Њ, –Њ—В –њ—П—В–Є–ї–µ—В–Ї–Є –Ї –њ—П—В–Є–ї–µ—В–Ї–µ, –Є –≤—Б–µ –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є «—Г–і–∞—А–љ—Л–µ». –Р –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–∞–ґ–і–Њ–є – –Њ—В—З–µ—В –Њ –њ—А–Њ–і–µ–ї–∞–љ–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–µ.
–Э–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –њ–µ—Б–µ–љ–љ–Њ-—Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї–∞ –њ–Њ—Б—В—Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–µ: «–®–µ—Б—В—М –±–µ–Ј—Г–і–∞—А–љ—Л—Е –њ—П—В–Є–ї–µ—В–Њ–Ї» . –Э–µ –≤—Б–µ —Г–ґ–µ, –њ–Њ–і–Є, –њ–Њ–Љ–љ—П—В, —З—В–Њ —Б—В—А–∞–љ–∞ –ґ–Є–ї–∞ –њ–ї–∞–љ–Њ–≤–Њ, –Њ—В –њ—П—В–Є–ї–µ—В–Ї–Є –Ї –њ—П—В–Є–ї–µ—В–Ї–µ, –Є –≤—Б–µ –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є «—Г–і–∞—А–љ—Л–µ». –Р –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–∞–ґ–і–Њ–є – –Њ—В—З–µ—В –Њ –њ—А–Њ–і–µ–ї–∞–љ–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–µ. –°—В—А—Г–Ї—В—Г—А–љ–Њ-—Б–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤–∞—П –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —Н—В–Њ–≥–Њ –Є–Ј–і–∞–љ–Є—П –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б—В–∞—В—М –ґ–∞–љ—А–Њ–Љ: «60 —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–є –Ї 60-–ї–µ—В–Є—О –∞–≤—В–Њ—А–∞».
–°—В—А—Г–Ї—В—Г—А–љ–Њ-—Б–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤–∞—П –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —Н—В–Њ–≥–Њ –Є–Ј–і–∞–љ–Є—П –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б—В–∞—В—М –ґ–∞–љ—А–Њ–Љ: «60 —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–є –Ї 60-–ї–µ—В–Є—О –∞–≤—В–Њ—А–∞».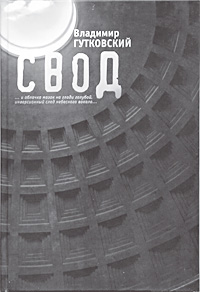 –° –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–Љ –Ь–∞—В–≤–µ–µ–≤–Є—З–µ–Љ –У—Г—В–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ —П –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї—Б—П –≤ –Ъ–Є–µ–≤–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Є–µ–Ј–ґ–∞–ї –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є—В—М –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е –Ї–Є–µ–≤—Б–Ї–Є—Е –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤ —Б –Љ–∞–ї–Њ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–Љ–Є –і–Њ–љ–µ—Ж–Ї–Є–Љ–Є. –Ч–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–Њ—Б—М, —Г–ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –≤—Б—В—А–µ—З–Є, –µ–≥–Њ –љ–µ–Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ–µ, –Љ–∞–≥–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —З—В–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–і –Ј–≤–µ–Ј–і–љ—Л–Љ –љ–µ–±–Њ–Љ, –≤–Њ–Ј–ї–µ –Ф–Њ–Љ–∞ —Б —Е–Є–Љ–µ—А–∞–Љ–Є:
–° –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–Љ –Ь–∞—В–≤–µ–µ–≤–Є—З–µ–Љ –У—Г—В–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ —П –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї—Б—П –≤ –Ъ–Є–µ–≤–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Є–µ–Ј–ґ–∞–ї –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є—В—М –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е –Ї–Є–µ–≤—Б–Ї–Є—Е –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤ —Б –Љ–∞–ї–Њ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–Љ–Є –і–Њ–љ–µ—Ж–Ї–Є–Љ–Є. –Ч–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–Њ—Б—М, —Г–ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –≤—Б—В—А–µ—З–Є, –µ–≥–Њ –љ–µ–Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ–µ, –Љ–∞–≥–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —З—В–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–і –Ј–≤–µ–Ј–і–љ—Л–Љ –љ–µ–±–Њ–Љ, –≤–Њ–Ј–ї–µ –Ф–Њ–Љ–∞ —Б —Е–Є–Љ–µ—А–∞–Љ–Є: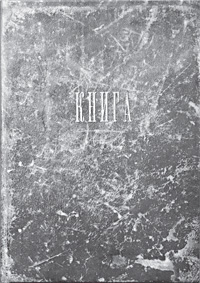 –Ґ–∞–Ї–Є–µ –Ї–љ–Є–≥–Є —Е—А–∞–љ—П—В—Б—П –≤ –Њ—В–і–µ–ї–µ —А–µ–і–Ї–Є—Е –Ї–љ–Є–≥, –≤—Л–і–∞—О—В—Б—П –љ–µ –≤—Б–µ–Љ, —З–Є—В–∞—О—В—Б—П –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ–Є, –љ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О—В—Б—П –љ–Є–Ї–µ–Љ. –Ю–і–љ–Њ –Є–Ј —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П – –±–ї–∞–≥–Њ–≥–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –Ї –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г, –∞ –Њ–љ–Њ –і–∞–≤–љ–Њ —Г—В—А–∞—З–µ–љ–Њ, –µ—Й–µ —Б–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ –У—Г—В—В–µ–љ–±–µ—А–≥–∞. –Ю—В—З–∞—Б—В–Є –µ–≥–Њ –Ј–∞–Љ–µ—Й–∞–µ—В –њ–Њ—З—В–µ–љ–Є–µ, –љ–Њ –ї–Є—И—М –Њ—В—З–∞—Б—В–Є. –≠—В–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ј–∞—А–∞–љ–µ–µ —Г–≤–∞–ґ–∞–µ—И—М —Б–Љ—Л—Б–ї —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–Є–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–µ–≥–Њ, –љ–µ –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞—П, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –њ—Г—Б—В—Л, —Б—Г–µ—В–љ—Л –Є–ї–Є –ї–ґ–Є–≤—Л. –Ґ–∞–Ї–Є–µ –Ї–љ–Є–≥–Є –љ–Є–Ї—Г–і–∞ –љ–µ —Б–њ–µ—И–∞—В –Є –љ–µ –ї–≥—Г—В.
–Ґ–∞–Ї–Є–µ –Ї–љ–Є–≥–Є —Е—А–∞–љ—П—В—Б—П –≤ –Њ—В–і–µ–ї–µ —А–µ–і–Ї–Є—Е –Ї–љ–Є–≥, –≤—Л–і–∞—О—В—Б—П –љ–µ –≤—Б–µ–Љ, —З–Є—В–∞—О—В—Б—П –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ–Є, –љ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О—В—Б—П –љ–Є–Ї–µ–Љ. –Ю–і–љ–Њ –Є–Ј —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П – –±–ї–∞–≥–Њ–≥–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –Ї –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г, –∞ –Њ–љ–Њ –і–∞–≤–љ–Њ —Г—В—А–∞—З–µ–љ–Њ, –µ—Й–µ —Б–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ –У—Г—В—В–µ–љ–±–µ—А–≥–∞. –Ю—В—З–∞—Б—В–Є –µ–≥–Њ –Ј–∞–Љ–µ—Й–∞–µ—В –њ–Њ—З—В–µ–љ–Є–µ, –љ–Њ –ї–Є—И—М –Њ—В—З–∞—Б—В–Є. –≠—В–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ј–∞—А–∞–љ–µ–µ —Г–≤–∞–ґ–∞–µ—И—М —Б–Љ—Л—Б–ї —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–Є–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–µ–≥–Њ, –љ–µ –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞—П, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –њ—Г—Б—В—Л, —Б—Г–µ—В–љ—Л –Є–ї–Є –ї–ґ–Є–≤—Л. –Ґ–∞–Ї–Є–µ –Ї–љ–Є–≥–Є –љ–Є–Ї—Г–і–∞ –љ–µ —Б–њ–µ—И–∞—В –Є –љ–µ –ї–≥—Г—В.