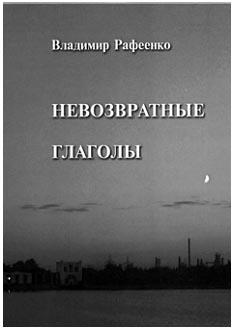–Ф–Ю–Э–Х–¶–Ъ–Ш–Щ –Я–†–Ю–Х–Ъ–Ґ
–Ф–Ю–Э–Х–¶–Ъ–Ш–Щ –Я–†–Ю–Х–Ъ–Ґ
|
–Э–µ –£–Ї—А–∞–Є–љ–∞ –Є –љ–µ –†—Г—Б—М - –С–Њ—О—Б—М, –Ф–Њ–љ–±–∞—Б—Б, —В–µ–±—П - –±–Њ—О—Б—М... –Ш–Э–Ґ–Х–Ы–Ы–Х–Ъ–Ґ–£–Р–Ы–ђ–Э–Ю-–•–£–Ф–Ю–Ц–Х–°–Ґ–Т–Х–Э–Э–Ђ–Щ –Ц–£–†–Э–Р–Ы "–Ф–Ш–Ъ–Ю–Х –Я–Ю–Ы–Х. –Ф–Ю–Э–Х–¶–Ъ–Ш–Щ –Я–†–Ю–Х–Ъ–Ґ" |
|
|
–Я–Њ–ї–µ –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л—Е –њ–Њ–Є—Б–Ї–Њ–≤ –Є –љ–∞—Е–Њ–і–Њ–Ї. –°—В–Є—Е–Є –Є –њ—А–Њ–Ј–∞. –Ъ—А–Є—В–Є–Ї–∞ –Є –Љ–µ—В–∞–Ї—А–Є—В–Є–Ї–∞. –Ю–±–Ј–Њ—А—Л –Є –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П. –†–µ—Д–ї–µ–Ї—Б–Є–Є –Є –Љ–µ–і–Є—В–∞—Ж–Є–Є. –•—А–Њ–љ–Є–Ї–∞. –Р—А—Е–Є–≤. –У–∞–ї–µ—А–µ—П. –Ш–љ—В–µ—А-–Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В—Л. –Я–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —А—Г–ї–µ—В–Ї–∞. –Я—А–Є–Ї–Њ–ї—Л. –Я–Є—Б—М–Љ–∞. –Ъ–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–Є. –Ф–љ–µ–≤–љ–Є–Ї —Д–Є–ї–Њ–ї–Њ–≥–∞. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П –њ–Њ–љ–µ–і–µ–ї—М–љ–Є–Ї, 02 —Д–µ–≤—А–∞–ї¬§, 2026 –≥–Њ–і |
 |
|
| –У–ї–∞–≤–љ–∞—П | –Ф–Њ–±–∞–≤–Є—В—М –≤ –Є–Ј–±—А–∞–љ–љ–Њ–µ | –°–і–µ–ї–∞—В—М —Б—В–∞—А—В–Њ–≤–Њ–є | –°—В–∞—В–Є—Б—В–Є–Ї–∞ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞ | ||
| –Я–Ю–Ы–Х –Т—Л–њ—Г—Б–Ї–Є –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞ –Ы–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–є –Ї–∞—В–∞–ї–Њ–≥ –Ч–∞–Љ–µ—В–Ї–Є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –†–µ—Д–µ—А–µ–љ–і—Г–Љ –С–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–∞  –Я–Ю–Ш–°–Ъ–Ш –†–∞—Б—И–Є—А–µ–љ–љ—Л–є –њ–Њ–Є—Б–Ї –°—В—А—Г–Ї—В—Г—А–∞ –Р–≤—В–Њ—А—Л –У–µ—А–Њ–Є –У–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П  –Э–Р–•–Ю–Ф–Ъ–Ш –Р–≤—В–Њ—А—Л –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ –Ъ—В–Њ —А—П–і–Њ–Љ –Р—Д–Є—И–∞ |
–Ю —А–Њ–Љ–∞–љ–µ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ –†–∞—Д–µ–µ–љ–Ї–Њ «–Э–µ–≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–љ—Л–µ –≥–ї–∞–≥–Њ–ї—Л» (–Ф–Њ–љ–µ—Ж–Ї: –Э–Њ—А–і-–Я—А–µ—Б—Б, 2009)
–С–Х–Ч–Ю–Ґ–Т–Х–Ґ–Э–Ђ–Х –Т–Ю–Я–†–Ю–°–Ђ
–Ф–∞–ґ–µ –≤ —А–Њ–і–љ–Њ–Љ –Ф–Њ–љ–±–∞—Б—Б–µ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –†–∞—Д–µ–µ–љ–Ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–µ–љ –ї–Є—И—М —Г–Ј–Ї–Њ–Љ—Г –Ї—А—Г–≥—Г –њ–Њ—З–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–є —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є —Б–ї–Њ–≤–µ—Б–љ–Њ—Б—В–Є. –Я–Є—Б–∞—В–µ–ї—М, –≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ, –Є –љ–µ —Б—В—А–µ–Љ–Є—В—Б—П –Ї –±–Њ–ї—М—И–µ–Љ—Г, –њ—Г–±–ї–Є–Ї—Г—П—Б—М –≤ –Љ–∞–ї–Њ—В–Є—А–∞–ґ–љ—Л—Е –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞—Е –Є –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞—П —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї–Є —Б—В–Є—Е–Њ–≤ –Є –њ—А–Њ–Ј—Л –≤ —Б–Ї—А–Њ–Љ–љ—Л—Е –Є–Ј–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е. «–Ъ—А–∞—В–Ї–∞—П –Ї–љ–Є–≥–∞ –њ—А–Њ—Й–∞–љ–Є–є» — —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј –µ–≥–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е –Ї–љ–Є–≥. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –≤–Њ—В — —А–Њ–Љ–∞–љ –≤ –љ–Њ–≤–µ–ї–ї–∞—Е, —Б —В–∞–Ї–Є–Љ –ґ–µ –Љ–µ–ї–∞–љ—Е–Њ–ї–Є—З–љ—Л–Љ –Ј–∞–≥–Њ–ї–Њ–≤–Ї–Њ–Љ — «–Э–µ–≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–љ—Л–µ –≥–ї–∞–≥–Њ–ї—Л» (–Ф–Њ–љ–µ—Ж–Ї, «–Э–Њ—А–і-–Я—А–µ—Б—Б», 2009). –≠—В–∞ –њ—А—П–љ–∞—П, —В–µ–њ–ї–∞—П –Є —Г–Љ–љ–∞—П –њ—А–Њ–Ј–∞ –ї–µ–≥–Ї–Њ —З–Є—В–∞–µ—В—Б—П, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –љ–µ —В–∞–Ї –њ—А–Њ—Б—В–∞, –Ї–∞–Ї –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П –љ–∞ –њ–µ—А–≤—Л–є –≤–Ј–≥–ї—П–і. –Я—А—П–Љ–Њ –∞–њ–Њ–Ї—А–Є—Д –Ї–∞–Ї–Њ–є —В–Њ, –µ–є-–±–Њ–≥—Г! –Т —Ж–µ–љ—В—А–µ –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П — –Ј–∞—Б—В–µ–љ—З–Є–≤—Л–є –Є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є—З–љ—Л–є —Д–Є–ї–Њ–ї–Њ–≥ –њ–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Ч—П–±–Ї–Њ, –Њ—В—З–∞—П–љ–љ–Њ –≤–ї—О–±–ї–µ–љ–љ—Л–є —Б—А–∞–Ј—Г –≤ –і–≤—Г—Е –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л—Е –і–µ–≤—Г—И–µ–Ї — –Ь—Н–є –Є –°–∞—Ж—Г–Ї–Є. –Т –≥–Њ—А–Њ–і–Ї–µ —Б –љ–µ–њ—А–Є–≤—Л—З–љ—Л–Љ –і–ї—П –£–Ї—А–∞–Є–љ—Л –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Ґ–Њ–Ї–Њ—А–Њ–і–Ј–∞–≤–∞ –≥–µ—А–Њ—П –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—В —Б—В—А–∞–љ–љ—Л–µ –Є —Н–Ї–Ј–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ — –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ —Б–Њ–±–∞–Ї–Є –њ–Њ –Ї–ї–Є—З–Ї–µ –У–∞–є, —З—М–Є–Љ–Є —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –±—Л–ї–Є –ї–∞–є–Ї–∞ –Р—Д—А–Њ–і–Є—В–∞ –Є –Љ–µ–і–≤–µ–і—М –£–Љ–Ї–∞. –≠—В–Њ —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ, –≥–і–µ –љ–∞ –і–≤–Њ—А–µ –≤–µ—З–љ—Л–є –Љ–µ—Б—П—Ж –Љ–∞–є, –≤—Б–µ —Ж–≤–µ—В–µ—В, –∞ —Г–ї–Њ—З–Ї–Є –Ј–∞–ї–Є–≤–∞–µ—В –і–Њ–±—А—Л–є —Б–≤–µ—В —Б–Њ–ї–љ—Ж–∞ —Б –±–ї–∞–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ–±–∞. –Ґ—Г—В «–ґ–∞—А–Ї–Њ –Њ—В –љ–∞–≥—А–µ–≤—И–µ–є—Б—П –Ј–∞ –і–µ–љ—М –Ї—А–Њ–≤–ї–Є, –Ј–∞–њ–∞—Е–∞ —Б–Љ–Њ–ї—Л, —Б—В—Г–Ї–∞ —В–Њ–њ–Њ—А–∞, –і–Њ–љ–Њ—Б–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –Є–Ј —Б–Њ—Б–µ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–∞–і–∞, –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ –њ—Л–ї—М–љ–Њ–≥–Њ, —Б–ї–µ–ґ–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –Ј–∞–њ–∞—Е–∞ —Б–µ–љ–∞, —А–∞—Б–Ї—А–∞—Б–љ–µ–≤—И–Є—Е—Б—П —Й–µ—З–µ–Ї, —И–µ–Є –Є –Ї—А—Г–њ–љ—Л—Е –Ї–Њ–ї–µ–љ–Њ–Ї –Ь—Н–є». –Ю–Љ—А–∞—З–∞–µ—В –ґ–Є–Ј–љ—М –≥–µ—А–Њ—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В—М —В–≤–µ—А–і–Њ–ї–Њ–±—Л–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П–Љ — —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –≤ –∞—А–Љ–Є–Є, –ґ–µ–љ–Є—В—М—Б—П –Є–ї–Є, –њ–Њ –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–∞ –Ј–µ–Љ–ї—П–Ї–Њ–≤, —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М—Б—П –±–µ—Б–њ—А–Њ–±—Г–і–љ—Л–Љ –∞–ї–Ї–Њ–≥–Њ–ї–Є–Ї–Њ–Љ. –Т–Њ–ї–Њ–і—П –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–µ—В –≤ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л—Е —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П—Е, —В–µ—А–Ј–∞—П —Б–µ–±—П, –Ї–∞–Ї –Є—Б—В–Є–љ–љ—Л–є –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—В, –≤–µ—З–љ—Л–Љ–Є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞–Љ–Є —В–Є–њ–∞ «–Ї—В–Њ –Љ—Л?» –Є «–Њ—В–Ї—Г–і–∞ –Є –Ї—Г–і–∞ –Є–і–µ–Љ?» –Ъ–∞–Ї–∞—П-—В–Њ –±–µ–Ј—Л—Б—Е–Њ–і–љ–∞—П —В–Њ—Б–Ї–∞ –Є –≤ —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤–µ—А–∞ –≤ –љ–µ–њ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ –Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є–µ —Б–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤ —Г–≥–∞–і—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ —Н—В–Њ–є –љ–µ–њ—А–µ—Е–Њ–і—П—Й–µ–є —А–µ—Д–ї–µ–Ї—Б–Є–Є –≥–µ—А–Њ—П –Є –і–∞–ґ–µ –≤ –µ–≥–Њ –њ—А–Є–≤—Л—З–Ї–µ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –њ–µ—А–µ—Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є—Е —Б–Њ–±–µ—Б–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Р —В–∞–Ї –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ –љ–∞–ї–Є—Ж–Њ —Б–ї–∞–і–Ї–∞—П, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –њ–∞—В–Њ–Ї–∞, –њ—А–Њ–Ј–∞, —Н—В–∞–Ї–Є–є –љ–µ–≤–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–Љ—Л–є —Б–њ–ї–∞–≤ –Є–Ј –і–∞—З–љ—Л—Е —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–Њ–≤ –І–µ—Е–Њ–≤–∞ –Є –њ—А–Њ–ї–µ—В–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А—П–Љ–Њ–і—Г—И–Є—П –Я–ї–∞—В–Њ–љ–Њ–≤–∞. –Я–Њ–њ—Г—В–љ–Њ, –њ—А–∞–≤–і–∞, –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В—Б—П –µ—Й–µ –Є –Ь–∞—А–Ї–µ—Б —Б –С–Њ—А—Е–µ—Б–Њ–Љ –і–∞ –•–∞—А–Љ—Б —Б –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–Љ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З–µ–Љ –У–Њ–≥–Њ–ї–µ–Љ. –Ц–Є–Ј–љ—М, –≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –і–∞–ї–µ–Ї–∞ –Њ—В –ї—О–±–Њ–≥–Њ –Љ–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–µ–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞ –Є –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Є –∞–±—Б—Г—А–і–∞. –Ь–Њ–ї, –•—А–Є—Б—В–Њ—Б –≤–µ–і—М –љ–∞ –°—В—А–∞—И–љ–Њ–Љ —Б—Г–і–µ —Б–њ—А–Њ—Б–Є—В –Њ –њ—А–Њ—Б—В—Л—Е –≤–µ—Й–∞—Е. «–ѓ –±—Л–ї –њ—А–µ–Ј–Є—А–∞–µ–Љ –≤—Б–µ–Љ–Є. –ѓ –ґ–і–∞–ї —В–µ–±—П, –Є –≥–і–µ —В—Л –±—Л–ї? — —В–Є—Е–Њ —Г–ґ–∞—Б–∞–µ—В—Б—П –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–µ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –і–Њ–њ—А–Њ—Б–∞ –≥–µ—А–Њ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ –†–∞—Д–µ–µ–љ–Ї–Њ. — –У–і–µ —В—Л –±—Л–ї? –Ь–Њ–ґ–µ—В, —В—Л –њ–Є—Б–∞–ї –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В—Б–Ї—Г—О –Њ –љ–µ–≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–љ—Л—Е –≥–ї–∞–≥–Њ–ї–∞—Е?» –Т —Н—В–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–µ –≤—Б–µ —Б–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –≥–Њ—А—М–Ї–Њ –Є –љ–µ–Њ–±—А–∞—В–Є–Љ–Њ, –Ї–∞–Ї –Є –±—Л–≤–∞–µ—В –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤–љ–∞—З–∞–ї–µ —Г —В–µ–±—П –≤–њ–µ—А–µ–і–Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ–∞—П –≤–µ—З–љ–Њ—Б—В—М –Є –Њ–±–µ—Й–∞–љ–Є–µ –љ–µ–≤–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–Љ–Њ–є –ї—О–±–≤–Є, –Є –≤–Њ—В —Г–ґ–µ —В—Л —А–∞—Б—В–µ—А—П–љ–љ–Њ –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–µ—И—М, —З—В–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П —В–≤–Њ–Є –љ–µ–ї–Њ–≤–Ї–Є, –∞ –і–µ–≤—Г—И–Ї–Є –љ–µ –Њ–±—А–∞—Й–∞—О—В –љ–∞ —В–µ–±—П –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П. –Ш –њ–Є–≤–Њ —Б—В–∞–ї–Њ –≤–Њ–і—П–љ–Є—Б—В—Л–Љ, –∞ –њ–Є—Ж—Ж–∞ — –Ї–ї–µ–є–Ї–Њ–є… –І—В–Њ-—В–Њ –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–µ –Є—Б–њ—Л—В—Л–≤–∞–µ—В –Є –≥–µ—А–Њ–є –≤ —Д–Є–љ–∞–ї–µ —А–Њ–Љ–∞–љ–∞, –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ –Њ—В—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–≤ –љ–∞ —Б–µ–±—П —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л. –Х–Љ—Г —Г–ґ–µ —Б–Њ—А–Њ–Ї –ї–µ—В, —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є –і–∞–≤–љ–Њ —Г–Љ–µ—А–ї–Є, –ґ–µ–љ—Л —А–∞–Ј—К–µ—Е–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ —Б—В—А–∞–љ–∞–Љ –Є –Ї–Њ–љ—В–Є–љ–µ–љ—В–∞–Љ, –Љ–∞–є –њ—А–Њ—И–µ–ї, –Є–і–µ—В —Б–љ–µ–≥, –∞ —Б–∞–Љ –Њ–љ —З–µ—И–µ—В –њ–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ —Ж–≤–µ—В—Г—Й–µ–є –Є –±–ї–∞–≥–Њ—Г—Е–∞—О—Й–µ–є —Г–ї–Є—Ж–µ –≤ –њ–Њ—В—А–µ–њ–∞–љ–љ–Њ–Љ –њ–∞–ї—М—В–Њ –Є —В—Г—Д–ї—П—Е –љ–µ –њ–Њ —Б–µ–Ј–Њ–љ—Г, —Б –њ–ї—О—И–µ–≤—Л–Љ –Љ–µ–і–≤–µ–ґ–Њ–љ–Ї–Њ–Љ –Ј–∞ –њ–∞–Ј—Г—Е–Њ–є — –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —Б–≤–Њ–Є–Љ –і—А—Г–≥–Њ–Љ. «–Ш–љ–Њ–≥–і–∞ —Б–∞–Љ–Њ–µ —В—П–ґ–µ–ї–Њ–µ, –Љ–Њ–є –ї—О–±–µ–Ј–љ—Л–є —З–Є—В–∞—В–µ–ї—М, — –њ–Њ–і—Л—В–Њ–ґ–Є–≤–∞–µ—В –∞–≤—В–Њ—А, — —Н—В–Њ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ —В–µ–Њ—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Њ —В–Њ–Љ, –Ї—В–Њ —В—Л –µ—Б—В—М, —Б –ґ–Є–≤–Њ–є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–Њ–є».
–Ш–≥–Њ—А—М –С–Ю–Э–Ф–Р–†–ђ-–Ґ–Х–†–Х–©–Х–Э–Ъ–Ю –•–Р–†–ђ–Ъ–Ю–Т
…–ѓ —Б–Њ–±–µ—А—Г –і–Њ–Љ –Ш–Ј—А–∞–Є–ї–µ–≤ –Є–Ј –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤, –Љ–µ–ґ–і—Г –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –Њ–љ–Є —А–∞—Б—Б–µ—П–љ—Л, –Є —П–≤–ї—О –≤ –љ–Є—Е —Б–≤—П—В–Њ—Б—В—М –Ь–Њ—О –њ–µ—А–µ–і –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є –њ–ї–µ–Љ–µ–љ, –Є –Њ–љ–Є –±—Г–і—Г—В –ґ–Є—В—М –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ —Б–≤–Њ–µ–є… –ѓ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і—Г —Б—Г–і –љ–∞–і –≤—Б–µ–Љ–Є –Ј–ї–Њ–ґ–µ–ї–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є –Є—Е –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –љ–Є—Е, –Є —Г–Ј–љ–∞—О—В, —З—В–Њ –ѓ –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М –С–Њ–≥ –Є—Е.
–Ш–µ–Ј–µ–Ї–Є–Є–ї—М, 28: 25–26
–Т—Л, —З—В–Њ —Г–Љ–µ–µ—В–µ –ґ–Є—В—М –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ, –Т —Б–Љ–µ—А—В—М, –Ї–∞–Ї –±–µ—Б—Б–Љ–µ—А—В–љ—Л–µ –і–µ—В–Є, –љ–µ –≤–µ—А—М—В–µ. –Ь–Є–≥ —Н—В–Њ—В –±—Г–і–µ—В –≤—Б–µ–≥–і–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ — –Ф–∞–ґ–µ –Ј–∞ —З–∞—Б, –Ј–∞ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ—М–µ –і–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є.
–°. –Ь–∞—А—И–∞–Ї
–І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г –љ—Г–ґ–љ–Њ –љ–µ —В—А–Є –∞—А—И–Є–љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–Є, –љ–µ —Г—Б–∞–і—М–±–∞, –∞ –≤–µ—Б—М –Ј–µ–Љ–љ–Њ–є —И–∞—А, –≤—Б—П –њ—А–Є—А–Њ–і–∞, –≥–і–µ –љ–∞ –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А–µ –Њ–љ –Љ–Њ–≥ –±—Л –њ—А–Њ—П–≤–Є—В—М –≤—Б–µ —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–∞ –Є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –і—Г—Е–∞.
–Р. –Я. –І–µ—Е–Њ–≤. –Ъ—А—Л–ґ–Њ–≤–љ–Є–Ї
–Т —Б–∞–і –Њ—В–Ї—А–Њ–є—В–µ –Њ–Ї–љ–Њ, —В–∞–Љ –і–µ—А–µ–≤—М—П –Ї—А–Є—З–∞—В –±–µ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–Њ. –Ъ–∞–Ї —Г—В–Њ–њ–ї–µ–љ–љ–Є–Ї, –≤ –њ–µ—Б–љ—М –њ–Њ–њ–ї—Л–≤—Г, –њ–Њ–њ–ї—Л–≤—Г –±–µ–Ј—А–∞—Б—Б—Г–і–љ–Њ! –Я—Г—Б—В—М —Б–Њ—А–≤–µ—В—Б—П –Љ–Њ–є –і–Њ–Љ —Б —П–Ї–Њ—А–µ–є –Є –њ–Њ–Љ—З–Є—В—Б—П, –Ї–∞–Ї —Б—Г–і–љ–Њ! –Ю –ґ–µ–љ–∞! –Ю –і—А—Г–Ј—М—П! –Ь–љ–µ –њ–Њ–Є—Б—В–Є–љ–µ –љ–µ—В—Г –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–∞!
–Ѓ. –Ґ—Г–≤–Є–Љ
–Ь–Њ—П –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є—П — —Б–ї–Њ–≤–Њ. –°–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –Є –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї —Н—В–Њ–є —Б—Г–±—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –Є–љ–Њ–µ, —З–µ–Љ —Г –ї—О–і–µ–є –і—А—Г–≥–Є—Е –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–є. –Я–Є—Б–∞—В–µ–ї—М –ґ–Є–≤–µ—В —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –Є–Ј –љ–µ–≥–Њ –Љ–Є—А, –Ї–∞–Ї –Є–Ј –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —З–∞—Б—В–Є—Ж.
–Ф. –†—Г–±–Є–љ–∞. –Ш–љ—В–µ—А–≤—М—О
–Р —П –ї–Є—И—М —В–µ–њ–µ—А—М –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О, –Ї–∞–Ї –љ–∞–і–Њ –Ы—О–±–Є—В—М, –Є –ґ–∞–ї–µ—В—М, –Є –њ—А–Њ—Й–∞—В—М, –Є –њ—А–Њ—Й–∞—В—М—Б—П…
–Ю. –С–µ—А–≥–≥–Њ–ї—М—Ж. –С–∞–±—М–µ –ї–µ—В–Њ
–Я–µ—А–≤—Л–є –≤–Ј–≥–ї—П–і: —Н–њ–Є–≥—А–∞—Д–Њ–≤ –≤ —А–Њ–Љ–∞–љ–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–≤–∞—В–Њ. –Т—В–Њ—А–Њ–є: –∞ –≤–µ–і—М –≤ –љ–Є—Е –Ї–ї—О—З! –≠—В–Є —Н–њ–Є–≥—А–∞—Д—Л — —Б–ї–Њ–≤–∞—А—М, –≥–і–µ –і–∞–µ—В—Б—П –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і —Б –њ–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞ –љ–∞ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–Є–є. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї –љ–Є–Љ –љ—Г–ґ–љ–Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—В—М—Б—П –Є –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Њ—З—В–µ–љ–Є—П –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ —В–µ–Ї—Б—В–∞. –°–∞–Љ—Г –Ї–љ–Є–≥—Г –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М, —Б–Њ–≥–ї–∞—И–∞—П—Б—М —Б –∞–≤—В–Њ—А–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї —А–Њ–Љ–∞–љ –≤ –љ–Њ–≤–µ–ї–ї–∞—Е, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ — –Ї–∞–Ї –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і—М –њ–Њ—Н—В–∞, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ — –Ї–∞–Ї –Є–≥—А—Г –≤ –±–Є—Б–µ—А. –Э–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ, –µ—Б—В—М –Є–≥—А–∞, –Є –Њ–љ–∞ –Ј–∞—В—П–≥–Є–≤–∞–µ—В, –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і—М –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Є —В–≤–Њ–µ–є, —З–Є—В–∞—В–µ–ї—М, –∞ –љ–Њ–≤–µ–ї–ї—Л –њ–µ—А–µ—В–µ–Ї–∞—О—В –≤ —Б—В–Є—Е–Є, –Є —Б–њ–ї–µ—В–∞–µ—В—Б—П —Б–ї–Њ–ґ–љ–∞—П, –Љ–љ–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–є–љ–∞—П —В–Ї–∞–љ—М –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –≥–і–µ –≤—Б–µ –≤—Л—И–µ–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ—Л–µ —Д–Њ—А–Љ—Л —Б–Њ–µ–і–Є–љ—П—О—В—Б—П –Є —Б–Њ–Ј–і–∞—О—В –љ–Њ–≤—Г—О, –љ–µ –њ–Њ–і–њ–∞–і–∞—О—Й—Г—О –њ–Њ–і –Є–Љ–µ—О—Й–Є–µ—Б—П –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є–Є –Є –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—Й—Г—О –њ–Њ–њ–∞–≤—И–µ–є –≤ —Н—В—Г —Б–µ—В—М –і—Г—И–µ –Њ—Б—В–∞—В—М—Б—П –њ—А–µ–ґ–љ–µ–є. –°—В—А–∞–љ–љ–Њ–µ –Є –Љ–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —Н—В–Њ —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ — —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Љ–Є—А «–Э–µ–≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–љ—Л—Е –≥–ї–∞–≥–Њ–ї–Њ–≤». –Я—А–∞–≤–і–∞, –љ–µ –ї—О–±–Њ–≥–Њ –Њ–љ –≤ —Б–µ–±—П –≤–њ—Г—Б—В–Є—В. –С–µ–і–љ—Л–є –і–Њ–≤–µ—А—З–Є–≤—Л–є —З–Є—В–∞—В–µ–ї—М, –њ—А–Є–≤—Л–Ї—И–Є–є –Ї —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –Ї–љ–Є–≥–Є –љ–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л—В—М –љ–∞–њ–Є—Б–∞- –љ—Л —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ–Є –±—Г–Ї–≤–∞–Љ–Є, —З—В–Њ –У–Њ–≥–Њ–ї—М –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З — —Е–Њ—В—М —Б—Г–Љ–∞—Б—И–µ–і—И–Є–є –љ–µ–Љ–љ–Њ–ґ–Ї–Њ, –љ–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М –Є —З—В–Њ –љ–∞ –£–Ї—А–∞–Є–љ–µ –љ–µ—В –Є –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Ї —Б—З–∞—Б—В—М—О, –≥–Њ—А–Њ–і–Ї–∞ –Ґ–Њ–Ї–Њ—А–Њ–і–Ј–∞–≤–∞, –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ –Ј–∞—Б—В—А—П–љ–µ—В –љ–∞ Antonio Cobo —Б –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ —Б–Ї—Г–ї—М–њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–Љ –У–Њ–≥–Њ–ї–µ–Љ. –Ш –Љ–љ–µ –µ–≥–Њ –і–∞–ґ–µ –љ–µ –ґ–∞–ї–Ї–Њ. –Э–µ –У–Њ–≥–Њ–ї—П –Є –љ–µ —Б–Ї—Г–ї—М–њ—В–Њ—А–∞, –∞ –±–µ–і–љ–Њ–≥–Њ —З–Є—В–∞—В–µ–ї—П, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ —З–Є—В–∞—В–µ–ї—О –±–Њ–ї–µ–µ –Є—Б–Ї—Г—И–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–Є–і–µ—В—Б—П –µ—Й–µ —В—П–ґ–µ–ї–µ–µ. –Ю–љ, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –Њ–і–Њ–ї–µ–µ—В –і–Њ—А–Њ–≥—Г, –љ–Њ –љ–∞ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ —Г–≥–ї—Г –µ–Љ—Г –±—Г–і—Г—В –Љ–µ—А–µ—Й–Є—В—М—Б—П –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–µ –ї–Є—Ж–∞. –Т–Њ—В, —Б–Ї–∞–ґ–µ–Љ, –•–∞—А–Љ—Б –і–Њ—А–Њ–≥—Г –њ–µ—А–µ–±–µ–ґ–∞–ї:
–Э—Г —З—В–Њ –і–µ–ї–∞—В—М, —Б—В–∞–ї –µ—Б—В—М –Ґ–∞–Ї–∞–Љ—Г—А–∞. –Ш —В–∞–Ї –љ–∞—Б–Њ–±–∞—З–Є–ї—Б—П, —З—В–Њ —Г–ґ–µ —З–µ—А–µ–Ј –≥–Њ–і —Б—К–µ–і–∞–ї –њ–Њ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —А–µ–і—М–Ї–µ –Ї–∞–ґ–і—Л–є –і–µ–љ—М. –І–µ—А–µ–Ј –і–≤–∞ –≥–Њ–і–∞ –њ—А–Є–≤—Л–Ї —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ, –љ–µ –Љ–Њ–≥ –±–µ–Ј –љ–µ–µ. –І–µ—А–µ–Ј —В—А–Є — –њ—А–Њ—Б—В–Њ —В–∞–Ї–Є –њ–Њ–ї—О–±–Є–ї. –І–µ—А–µ–Ј —З–µ—В—Л—А–µ –њ—А–Њ—Б–љ—Г–ї—Б—П –Њ–љ –Ї–∞–Ї —В–Њ, –∞ —А—П–і–Њ–Љ —Б –љ–Є–Љ –≤ –њ–Њ—Б—В–µ–ї–Є –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞. — –†–µ–і—М–Ї–∞, —В—Л! — –≤–Њ—Б–Ї–ї–Є–Ї–љ—Г–ї –Ґ–∞–Ї–∞–Љ—Г—А–∞. — –Ґ—М—Д—Г –љ–∞ –≤–∞—Б, –Ґ–∞–Ї–∞–Љ—Г—А–∞ –С–Њ–≥–і–∞–љ–Њ–≤–Є—З, –Ї–∞–Ї–∞—П –ґ —П –≤–∞–Љ —А–µ–і—М–Ї–∞. –Ц–µ–љ–∞ –≤–∞—И–∞. — –Ф–∞ –љ—Г, — —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Ґ–∞–Ї–∞–Љ—Г—А–∞. — –Ґ–Њ—З–љ–Њ, — —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞. –Ш –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –ґ–µ–љ–∞. («–†–µ–і—М–Ї–∞»)
–Р –≤–Њ—В –±–∞—А–Њ–љ –Ь—О–љ—Е–≥–∞—Г–Ј–µ–љ —Б –У–∞—А–≥–∞–љ—В—О–∞ –њ–µ—А–µ–Љ–Є–≥–Є–≤–∞—О—В—Б—П:
–Т —Н—В–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–µ —П –њ–Є—И—Г —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–∞–≤–і—Г –Є –љ–Є—З–µ–≥–Њ –Ї—А–Њ–Љ–µ –њ—А–∞–≤–і—Л, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Љ–Њ–≥—Г —Б–Љ–µ–ї–Њ –Ј–∞—П–≤–Є—В—М, —З—В–Њ –≤ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–µ –і–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –ї–µ—В —П –ї—О–±–Њ–Љ—Г –Ф–ґ–µ—А–∞–ї—М–і—Г –Ф–∞—А—А–µ–ї–ї—Г –і–∞–ї –±—Л —Д–Њ—А—Г —Б—В–Њ –Њ—З–Ї–Њ–≤ –≤–њ–µ—А–µ–і, –Ї–Њ–≥–і–∞ –і–µ–ї–Њ –Ї–∞—Б–∞–ї–Њ—Б—М –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤ –Њ–±—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є —Б–≤–µ–ґ–µ–љ–Є–љ—Л. –Т —В—А–Є–љ–∞–і—Ж–∞—В—М, –≤ –Љ–Њ—А–Њ–Ј–љ–Њ–Љ —Д–µ–≤—А–∞–ї–µ, –≤–Є–і–Є–Љ–Њ –љ–∞–µ–≤—И–Є—Б—М –і–Њ –Њ—В–≤–∞–ї–∞ –Ї—А–∞–њ–Є–≤—Л, —П –Ј–∞–Љ—Г—З–Є–ї –≤ —Б–∞—А–∞–µ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Ї–∞–±–∞–љ–∞. –Т —З–µ—В—Л—А–љ–∞–і—Ж–∞—В—М — –±—Л—З–Ї–∞. –Т –њ—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В—М — –і–≤—Г—Е. –Т —И–µ—Б—В–љ–∞–і—Ж–∞—В—М — —В—А–µ—Е, –і–≤–∞ –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ –Љ–љ–µ –њ–Њ–њ–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –≥–ї–∞–Ј–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ —П —И–µ–ї –і–Њ–Љ–Њ–є –њ–Њ—Б–ї–µ –Ј–∞–љ—П—В–Є–є –Є–Ј –Љ–Є–ї–Њ–є –Љ–Њ–µ–Љ—Г —Б–µ—А–і—Ж—Г —И–Ї–Њ–ї—Л. –Т —Б–µ–Љ–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –љ–∞ –љ–∞—И—Г —Г–ї–Є—Ж—Г –±–Њ—П–ї–Є—Б—М –Ј–∞–ї–µ—В–∞—В—М –і–∞–ґ–µ –≤–Њ—А–Њ–±—М–Є, –∞ –ї–Њ—И–∞–і–Є –Ј–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Ї—А–∞–є–љ–µ –Њ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–∞–±—Г–љ–∞–Љ–Є, –і–µ—А–ґ–∞ –љ–∞–≥–Њ—В–Њ–≤–µ –Ї–Њ–њ—Л—В–∞, –Ї–Њ–≤–∞–љ—Л–µ —Г–Ј–і–µ—З–Ї–Є, –Ї–∞—Б—В–µ—В—Л –Є —З—Г–≥—Г–љ–љ—Л–µ –і—Л—И–ї–∞. («–°–∞–ї–∞—В –Є–Ј –Ї—А–∞–њ–Є–≤—Л»)
–Р –≤–Њ—В –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –У—А–Є–љ –њ–Њ–і—Г—З–Є–ї –∞–≤—В–Њ—А–∞ –Ї–∞—А—В—Л –≤—Л–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ—Л—Е —Б—В—А–∞–љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М —В–∞–Ї, —З—В–Њ –Њ—В –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є—Е –љ–µ –Њ—В–ї–Є—З–Є—И—М. –Ш –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Њ–Љ –≥–ї–Њ–±—Г—Б–µ –£–Ї—А–∞–Є–љ—Л —П–њ–Њ–љ—Ж—Л —Е–Є–±–∞–Ї—Г—Б—П, –Ї–∞–Ї –њ–µ–њ–µ–ї –Ъ–ї–∞–∞—Б–∞, —Б—В—Г—З–∞—В –≤ —Б–µ—А–і—Ж–µ –ґ–Є—В–µ–ї—П –і–Њ–љ–±–∞—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–µ–ї–Ї–∞ –Ґ–Њ–Ї–Њ—А–Њ–і–Ј–∞–≤–∞, –≥–і–µ –µ—Б—В—М —Г–ї–Є—Ж–∞ –†–Њ–Ј—Л –Ы—О–Ї—Б–µ–Љ–±—Г—А–≥; —Б–∞–Љ –ґ–µ –њ–Њ—Б–µ–ї–Њ–Ї –Љ–Є—А–љ–Њ —Б–Њ—Б–µ–і—Б—В–≤—Г–µ—В –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б –ѓ–њ–Њ–љ–Є–µ–є –Є, —Б—Г–і—П –њ–Њ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –љ–∞–Љ–µ–Ї–∞–Љ, —Б –Р—А–Љ–µ–љ–Є–µ–є, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –љ–Њ –Є —Б –Ф–∞–ї—М–љ–Є–Љ –°–µ–≤–µ—А–Њ–Љ, –≥–і–µ –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї–Є—Б—М –Љ–µ–і–≤–µ–і—М –£–Љ–Ї–∞ –Є –Ї—А–∞—Б–∞–≤–Є—Ж–∞ –Р—Д—А–Њ–і–Є—В–∞ (–Њ—В –®–њ–Є—Ж–±–µ—А–≥–µ- –љ–∞ –і–Њ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л, –∞ –Њ—В—В—Г–і–∞ —Г–ґ –і–Њ –Ф–Њ–љ–±–∞—Б—Б–∞ —А—Г–Ї–Њ–є –њ–Њ–і–∞—В—М)… –Ш —В–Њ—В, –Ї—В–Њ –њ–Њ–є–Љ–µ—В –≤–µ–Ј–і–µ—Б—Г—Й–µ—Б—В—М –Ш–Ј—А–∞–Є–ї—П –Є –њ—А–Њ–є–і–µ—В –њ—Г—В—М –Є–Ј –°–Є–љ–і–∞—П –≤ –•–∞–Ї–Њ–і–∞—В—Н, –љ–µ —Г–і–Є–≤–Є—В—Б—П, —З—В–Њ –≤ —В–Њ–Љ –њ–Њ—Б–µ–ї–Ї–µ –ґ–Є–≤—Г—В –і–µ–≤–Њ—З–Ї–∞ –Ь—Н–є –°–≤–∞–љ—В–µ—Б–Њ–љ –Є –µ–µ –±–∞–±—Г—И–Ї–∞ –†–Є–є–Њ –Ь–Њ—А–Є, –∞ —Б—Л–љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–є —Е–Њ—Е–ї—П—Ж–Ї–Њ–є –µ–≤—А–µ–є–Ї–Є –†–Њ–Ј—Л –Ј–Њ–≤—Г—В, —П—Б–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ, –•–Њ—В–Є—А–Њ… –Ъ —Н—В–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є –µ—Й–µ –У–Њ–≥–Њ–ї—П –њ—А–Є–±–∞–≤–Є—В—М –љ–∞–і–Њ. –Ю–±–Њ–Є—Е –У–Њ–≥–Њ–ї–µ–є: –Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤–∞—П—В–µ–ї—М, –Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М. –Ф–∞. –£–Ї—А–∞–Є–љ—Б–Ї–Є–µ –≤–∞—А–µ–љ–Є–Ї–Є —А–∞–Ј–Љ–µ—А–Њ–Љ —Б —В–∞- —А–µ–ї–Ї—Г –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј —Е–Њ—А–Њ—И–Њ —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї—П—В—М –љ–∞ —Б–≤–µ–ґ–µ–Љ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–µ, –њ–Њ–і –ї–Є–њ–Њ–є, —Б–Ї–∞–ґ–µ–Љ, –≥–і–µ –љ–µ–ґ–љ–Њ –ґ—Г–ґ–ґ–∞—В –њ—З–µ–ї—Л —Б –њ–Њ–≤–∞–і–Ї–∞–Љ–Є –Љ–µ—Б—Б–µ—А—И–Љ–Є—В–∞:
–Я—З–µ–ї—Л —Г –љ–µ–≥–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–∞—О—В—Б—П –≥—А–Њ–Љ–∞–і–љ—Л–µ, –Ї–∞–Ї –С-52. –° –і–Є–Ї–Є–Љ –≤–Њ–µ–Љ –Њ–љ–Є –њ—А–Њ–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –љ–∞–і —Е–Њ–ї–Љ–∞–Љ–Є –Є –і–Њ–ї–Є–љ–∞–Љ–Є –£–Ї—А–∞–Є–љ—Л, —Е–Є—Й–љ–Њ –≤—Л—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—П –Є –Њ—В—Л–Љ–∞—П —Г –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –≤–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Л–µ —Б–≤–µ—З–Ї–Є –Є –њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –Ј–∞–њ–Є—Б–Ї–Є, –њ–∞—Б—Е–∞–ї—М–љ—Л—Е –∞–љ–≥–µ–ї–Њ–≤ –Є –і–Є–Ї–Є–є –Љ–µ–і, —И–Њ–Ї–Њ–ї–∞–і–љ—Л–µ –Ї–Њ–љ—Д–µ—В—Л –Є –Ї–љ–Є–≥–Є, —Б–≥—Г—Й–µ–љ–љ–Њ–µ –Љ–Њ–ї–Њ–Ї–Њ –Є –њ–Є–≤–Њ. («–Ф—П–і—П»)
–Р –Ї–∞–Ї –≤–Ј–і—А–∞–≥–Є–≤–∞–µ—В —Б–µ—А–і—Ж–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј –Ј–µ—А–Ї–∞–ї –і—Г—И–Є –Њ—В—А–∞–Ј–Є—В—Б—П –Ї—А–∞–є –њ–ї–∞—Й–∞ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –Њ–і–Є–љ–Њ—З–µ—Б—В–≤–µ –Є –Њ—В—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–∞–≥–∞ — –У–∞—А—Б–Є–∞ –Ь–∞—А–Ї–µ—Б–∞…
…–Т–Є–ґ—Г, –Ї–∞–Ї –≤ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–є —Д–Њ—А—В–Њ—З–Ї–µ –њ—А–Њ–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П —В–µ–њ–ї–∞—П –ї–µ—В–љ—П—П —Г–ї–Є—Ж–∞, –Њ–±–ї–∞–Ї–∞. –°–Є–љ—П—П —Б–Њ–±–∞–Ї–∞ –њ—А–Њ–±–µ–ґ–∞–ї–∞ –њ–Њ –љ–µ–±—Г, –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–∞—Б—М —Г —Д–Њ—А—В–Њ—З–Ї–Є, –Ј–∞—Б—Г–љ—Г–ї–∞ –Ї –љ–∞–Љ —Б—О–і–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г, –Ї–∞—И–ї—П–љ—Г–ї–∞, –њ–Њ–і—Л—И–∞–ї–∞, –њ–Њ–±–µ–ґ–∞–ї–∞ –і–∞–ї—М—И–µ. («–Э–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞—П»)
— –Ь–Њ—П –Љ–∞–Љ–∞ —Г—И–ї–∞ –љ–∞ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ –±–∞–±—Г—И–Ї—Г –њ—А–Њ–≤–µ–і–∞—В—М, –∞ –њ–∞–њ–∞ –Ї –і–≤–µ—А–Є –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б —В–Њ–њ–Њ—А–Њ–Љ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –њ—М–µ—В –≤—Б—О –љ–µ–і–µ–ї—О. –Э–Њ –µ—Б–ї–Є —В—Л —Е–Њ—З–µ—И—М, –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞, —П –Љ–Њ–≥—Г –µ–≥–Њ —А–∞–Ј–±—Г–і–Є—В—М –Є –њ–Њ–Ј–≤–∞—В—М —Б—О–і–∞ –Ї –і–≤–µ—А–Є. –Э–Њ –±–Њ—О—Б—М, —З—В–Њ —В–Њ–≥–і–∞ —В–µ–±–µ –љ–µ –њ—А–Є–і–µ—В—Б—П –±–Њ–ї—М—И–µ –Ї–∞—В–Є—В—М—Б—П –Њ—В –і–Њ–Љ–Є–Ї–∞ –Ї –і–Њ–Љ–Є–Ї—Г –Є —Е–ї–Њ–њ–∞—В—М —Г—И–∞–Љ–Є –њ–Њ –њ—Л–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ—Б–µ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–µ, –љ–µ –њ—А–Є–і–µ—В—Б—П —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–Њ—Б–Є—В—М —Б–Є–љ–Є–µ –Љ–∞—Е—А–Њ–≤—Л–µ —О–±–Ї–Є –Є –ґ–∞–Ї–µ—В–Ї–Є —Б –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–Љ–Є —Б–Є–љ–Є–Љ–Є —П–Ї–Њ—А—М–Ї–∞–Љ–Є –љ–∞ –њ–ї–Њ—Б–Ї–Њ–Љ –ґ–Є–≤–Њ—В–µ, —З–µ—А–љ—Л–µ –Љ–∞—Б—Б–Є–≤–љ—Л–µ —В—Г—Д–ї–Є, –Љ–Њ—Е–љ–∞—В—Л–µ —Г—Б—Л, –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–µ –±—А–Њ–≤–Є, –≥–ї–∞–Ј–∞ –Є–µ–Ј—Г–Є—В–∞-–Є–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ—Ж–∞ –Є –±–Њ—А–Њ–і–Є—И–Ї—Г –љ–∞ –Љ–∞–љ–µ—А —И–µ–≤–∞–ї—М–µ –Р—А–∞–Љ–Є—Б–∞. –Ф–∞, –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞, –±–Њ—О—Б—М, —З—В–Њ —В–µ–±–µ –љ–µ –њ—А–Є–і–µ—В—Б—П —Г–ґ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞—В—М, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ —В–Њ–њ–Њ—А –Њ—В—Ж–∞ –Љ–Њ–µ–≥–Њ –±—Л—Б—В—А, –Ї–∞–Ї –Љ—Л—Б–ї—М, –Њ—В—В–Њ—З–µ–љ–љ–∞—П –±—А–Є—В–≤–Њ–є –Ю–Ї–Ї–∞–Љ–∞. («–Ы–Њ—И–∞–і–Є–љ–∞—П –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞»)
–Ф–∞, –Є –њ—А–Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г —З–Є—В–∞—В–µ–ї—О —В—П–ґ–µ–ї–Њ. –°–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–љ –Ї–љ–Є–ґ–µ–Ї –њ—А–Њ—З–µ–ї, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї–µ–є, –≤–Њ—В –Є –Љ–µ—А–µ—Й–∞—В—Б—П –µ–Љ—Г –љ–∞ –Ї—А–Є–≤—Л—Е –њ—Л–ї—М–љ—Л—Е —Г–ї–Њ—З–Ї–∞—Е –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–µ –ї–Є—Ж–∞. –Р –Љ–Њ–ґ–µ—В, –Є –њ—А–∞–≤–і–∞ –ґ–Є–≤—Г—В –Њ–љ–Є –Ј–і–µ—Б—М, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ –Ї–∞–ґ–і—Л–є —Б–∞–Љ –њ–Њ —Б–µ–±–µ, –∞ –њ–µ—А–µ—В–µ–Ї–∞—П –≤–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Є –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–µ, –≤—Б–µ–ї—П—П—Б—М –≤ –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–µ–є –Є —А–∞–Ј–і–≤–∞–Є–≤–∞—П –Є —А–∞—Б—В—А–∞–Є–≤–∞—П –Є—Е –Њ–±—А–∞–Ј—Л… –Т–µ–і—М –љ–µ–і–∞—А–Њ–Љ –Ь—Н–є, –±—Л–≤—И–∞—П –≤—З–µ—А–∞ –і–Њ—З–µ—А—М—О –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–∞ –≤–Є–Ї–Є–љ–≥–Њ–≤, —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –њ—А–Њ–≤–Є–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –і–µ–≤—З–Њ–љ–Ї–Њ–є —Б «–≥–ї–Є–љ—П–љ–Њ–є –≥–Њ–ї–Њ–≤–µ—И–Ї–Њ–є», –∞ –Ј–∞–≤—В—А–∞ — «—В–Њ–љ–µ–љ—М–Ї–Њ–є, –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є, –Њ—З–µ–љ—М —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ–є –µ–≤—А–µ–є–Ї–Њ–є, —Б –і–ї–Є–љ–љ—Л–Љ–Є –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л–Љ–Є –њ–∞–ї—М—Ж–∞–Љ–Є, –Є–Ј—Г–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –њ–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –Ї—А–∞—Б–Њ—В–µ –ї–Є—Ж–Њ–Љ –Є –љ–µ–≤–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–Љ—Л–Љ–Є –њ–Њ –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є». –Э–µ–і–∞—А–Њ–Љ –°–∞—Ж—Г–Ї–Њ –Є –°–∞—Ж—Г–Ї–Є–Ї–Њ —Б—Г—В—М –і–∞–Љ—Л —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ —А–∞–Ј–љ—Л–µ, —Е–Њ—В—П –ї–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –≥–µ—А–Њ–є –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В –Є—Е –Ї–∞–Ї —Ж–µ–ї–Њ–µ, –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ–µ –Ь—Н–є. –Э–µ–і–∞—А–Њ–Љ —Б–∞–Љ –ї–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –≥–µ—А–Њ–є –µ–і–Є–љ –≤ —В—А–µ—Е –ї–Є—Ж–∞—Е — –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А, –Ч—П–±–Ї–Њ –Є –Ґ–Њ—В–Њ—А–Њ, —Е–Њ—В—П –Ґ–Њ—В–Њ—А–Њ –≤ —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П «–љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ», –њ–ї–Њ–і –Љ–µ–Ј–∞–ї—М—П–љ—Б–∞ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П –Х—А—И–Њ–≤–∞ –Є —Б—В–∞—В—Г—Н—В–Ї–Є —А—Г—Б–∞–ї–Ї–Є, –њ–Њ—З–Є—В–∞–µ–Љ—Л–є –≤ –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є –њ—Г—И–Є—Б—В—Л–є «–Є–љ—В—А–Њ–≤–µ—А—В-–≥–µ—А–Љ–∞—Д—А–Њ–і–Є—В — –Ъ–∞—А–ї—Б–Њ–љ –Є –Ь–µ—А–Є –Я–Њ–њ–Є–љ—Б» –Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ –µ—Й–µ –Ї—В–Њ — –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, «—В—Л –Є —Б–∞–Љ —Б–ї–µ–≥–Ї–∞ –Ґ–Њ—В–Њ—А–Њ»… –Ґ–∞–Ї–Њ–µ —Б–µ–±–µ —И–∞–Љ–∞–љ—Б—В–≤–Њ –≤ –≤–µ—З–љ–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –Ј–µ–Љ–ї—П, –њ—А–Є—И–∞—Е—В–љ–Њ–Љ –њ–Њ—Б–µ–ї–Ї–µ, –≥–і–µ –Є –і–Њ–≤–µ—А—З–Є–≤–Њ–≥–Њ, –Є –Є—Б–Ї—Г—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —З–Є—В–∞—В–µ–ї—П –≤–≤–Њ–і–Є—В –≤ —В—А–∞–љ—Б –≥–Њ–ї–Њ—Б –±—Г–±–љ–∞, –Њ–±–≤–µ—И–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ—Н—Ж–Ї–µ, — –Є –Ї—А—Г–ґ–Є—В, –Є –Ј–∞–Љ–∞–љ–Є–≤–∞–µ—В, –Є –і–∞–µ—В –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–µ —Б—З–∞—Б—В—М—П –≤ –Љ–Є—А–µ, –≥–і–µ –Њ–љ–Њ –≤ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–µ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ:
–Э–∞ –њ–µ—А—А–Њ–љ–µ –Ї—А—Г–ґ–Є–ї —Б–љ–µ–≥, –≤–њ–µ—А–µ–і–Є –±—Л–ї–∞ —Ж–µ–ї–∞—П –≤–µ—З–љ–Њ—Б—В—М, –Є —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М –љ–µ–µ —П —В–∞–Ї —Е–Њ—В–µ–ї –ї—О–±–Є—В—М, —З—В–Њ –≤ –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –і–µ–≤—Г—И–Ї–µ —П –≤–Є–і–µ–ї –Ь—Н–є, –∞ –≤ –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–µ — –°–∞—Ж—Г–Ї–Є–Ї–Њ. –Т –Њ–±—Й–µ–Љ, —П –Ї—Г–і–∞-—В–Њ –µ—Е–∞–ї, –Љ–Є—А –±—Л–ї —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї–µ–љ, –Ј–∞–≥–∞–і–Њ—З–µ–љ –Є –≥—А–Њ–Ј–µ–љ –Ї—А–∞–є–љ–µ. –Э–Њ —П –±—Л–ї –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤, –∞ –њ–Њ—З–µ–Љ—Г — –љ–µ –њ–Њ–Љ–љ—О –Є –љ–µ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ—О, –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, —Г–ґ–µ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞… («–Ь—Н–є»)
–Э–Њ –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –ґ–µ –≤ —Н—В–Њ–Љ –±–Є–±–ї–µ–є—Б–Ї–Њ–Љ, –≤–Њ–Ј–≤—Л—И–µ–љ–љ–Њ–Љ, –њ—А–Є–Ј–µ–Љ–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ, –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Њ–Љ «–і–Њ –і–µ—В—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Є–њ—Г—Е—И–Є—Е –ґ–µ–ї–µ–Ј», –≤—А–∞–ґ–і–µ–±–љ–Њ–Љ –Є —П—А–Њ—Б—В–љ–Њ–Љ –Љ–Є—А–µ –њ–Њ—П–≤–ї—П—О—В—Б—П —Б—Г–≥—Г–±–Њ –љ–∞—Г—З–љ—Л–µ –ї–∞—В–Є–љ—Б–Ї–Є–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П, –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є–µ —Б–ї–Њ–≤–∞, –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–∞—П –Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ–њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–Є–Љ–∞—П —В—П–≥–∞ –∞–≤—В–Њ—А–∞ (–њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П? –ї–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–µ—А–Њ—П?) –Ї —В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–Љ—Г —Б–ї–Њ–≤–∞—А—О, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж? –Ш –Ї —З–µ–Љ—Г —В—Г—В —А–µ—Ж–µ–њ—В «—П–±–ї–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –њ–Є—А–Њ–≥–∞ –љ–∞ –Я–µ–є—Б–∞—Е», –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є, –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –±–µ—Б–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ –≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В –≤ –Є–Ј—А–∞–Є–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ –і–Њ–Љ–µ –њ—А–µ—Б—В–∞—А–µ–ї—Л—Е «—В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤—Л–є —Д–Є–ї–Њ–ї–Њ–≥, –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –Ј–љ–∞—В–Њ–Ї –С—Г–ї–≥–∞–Ї–Њ–≤–∞ –Є –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Є—Б—В–Є–љ–љ—Л–є —Б–Є–±–Є—А—П–Ї» –І—В–Њ –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П —А–µ—Ж–µ–њ—В–Њ–≤, —В—Г—В –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –≤—Б—С —П—Б–љ–Њ: —Н—В–Њ –≤–Ї—Г—Б–љ–Њ. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –Њ–љ–Є –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ –≤–Њ—Б–њ–Є—В—Л–≤–∞—О—В —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ –Є–љ—В–µ—А–љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞ –Є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –њ—А–Є—З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –Ї –±–Є–±–ї–µ–є—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–µ, –∞ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤—Г—О—В –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є, –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П —Г–ґ –Њ –Ї—Г–ї–Є–љ–∞—А–љ–Њ–є, —Н–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є. –Р –≤–Њ—В —Г —Б–ї–Њ–≤–∞—А–љ—Л—Е —Б—В–∞—В–µ–є —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–µ–µ. –°–ї–Њ–≤–∞—А–љ—Л–µ —Б—В–∞—В—М–Є — —Н—В–Њ —В–Њ, —З—В–Њ —Б–Њ–µ–і–Є–љ—П–µ—В –≤ —В–Ї–∞–љ–Є –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Є –Љ—Г–Ј—Л–Ї—Г. –≠—В–Њ –њ—А—Г–ґ–Є–љ–∞, –∞ —В–Њ—З–љ–µ–µ — —А–∞—Б–Ї—А—Г—З–Є–≤–∞—О—Й–∞—П—Б—П —Б–њ–Є—А–∞–ї—М –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ—Б–њ—А–Є—П—В–Є—П; —П–Ї–Њ—А—М, –љ–µ –і–∞—О—Й–Є–є –њ—А–Њ–њ–∞—Б—В—М –≤ –±–µ–Ј–і–љ–µ –≤–Њ–ї–љ, –љ–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—Й–Є–є «–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М—Б—П, –Њ–≥–ї—П–љ—Г—В—М—Б—П —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ, —В–∞–Љ, –љ–∞ –≤–Є—А–∞–ґ–µ»; –≤–µ—З–љ–∞—П –Є –Љ—Г–і—А–∞—П –С–Њ–ї—М—И–∞—П –Ь–µ–і–≤–µ–і–Є—Ж–∞ –≤ —З–∞—Б –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–±–∞–Ї–Њ–є –Є –≤–Њ–ї–Ї–Њ–Љ; —В–Њ—З–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –љ—Г–ґ–љ–Њ –і–µ—А–ґ–∞—В—М –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–Љ — –Є–љ–∞—З–µ –±–∞–ї–∞–љ—Б –±—Г–і–µ—В –њ–Њ—В–µ—А—П–љ. –°—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—О —В–Њ–є –ґ–µ —Б–њ–Є—А–∞–ї–Є —Б–ї—Г–ґ–∞—В –Є —А–∞–Ј–љ–Њ—П–Ј—Л—З–љ—Л–µ –≤–Ї—А–∞–њ–ї–µ–љ–Є—П — –Ј–∞—А—Г–±–Ї–Є –љ–∞ –і–µ—А–µ–≤–µ –њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П –і–Њ–±—А–∞ –Є –Ј–ї–∞, –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б–Ї—А–µ–њ—Л, –љ–µ –і–∞—О—Й–Є–µ —А–∞–Ј–≤–∞–ї–Є—В—М—Б—П —Н—В–Њ–Љ—Г —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г, –љ–Њ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —Г–±–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г —Е—А–Њ–љ–Њ—В–Њ–њ—Г. –Т–Њ–Њ–±—Й–µ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П —А–Њ–Љ–∞–љ–∞ –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Б–ї–Њ–ґ–љ–∞; —Н—В–∞ –і–≤–Њ–є–љ–∞—П —Б–њ–Є—А–∞–ї—М –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–µ—В –≤ —Б–µ–±–µ —Ж–µ–ї—Л–є –љ–∞–±–Њ—А —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Њ–≤, –Њ–ї–Є—Ж–µ—В–≤–Њ—А—П—О—Й–Є—Е –і–≤–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–±–Њ—А—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е, –љ–Њ –µ–і–Є–љ—Л—Е –љ–∞—З–∞–ї–∞ –±—Л—В–Є—П: –°–∞—Ж—Г–Ї–Є — –Ь—Н–є, –ѓ–њ–Њ–љ–Є—П — –£–Ї—А–∞–Є–љ–∞, –Њ–љ–Є –Њ–±–µ — –Ш–Ј—А–∞–Є–ї—М, —О–љ–Њ—Б—В—М — –Ј—А–µ–ї–Њ—Б—В—М, –њ–Њ—Н–Ј–Є—П — –њ—А–Њ–Ј–∞, –Ч—П–±–Ї–Њ — –Ґ–Њ—В–Њ—А–Њ, –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М (–Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А) — –Ґ–Њ—В–Њ—А–Њ, –Ч—П–±–Ї–Њ — –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –Є –њ—А., –Є —В–∞–Ї –љ–∞ –≤—Б–µ—Е —Г—А–Њ–≤–љ—П—Е. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П –Љ–љ–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–є–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞ –њ—Г—В–µ–Љ –њ–Њ–≤—В–Њ—А–Њ–≤ –Є –њ–µ—А–µ–Ї–ї–Є—З–µ–Ї –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–µ–є, –Љ–Њ—В–Є–≤–Њ–≤, –і–∞–ґ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П –≥–ї–∞–≤, —А–∞–Љ–Њ—З–љ—Л–є —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–Є—А—Г–µ—В, –љ–Њ –Є –Њ–±–µ—А–µ–≥–∞–µ—В —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ—Л–є –Љ–∞–Ї—А–Њ- –Є –Љ–Є–Ї—А–Њ–Ї–Њ—Б–Љ: –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П —Б —Б–Њ–ї–і–∞—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ, –і–∞–ґ–µ –Љ–µ—А—В–≤—Л–µ, –њ—А–Њ–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞—О—В –і–Њ—А–Њ–≥—Г; –Є –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ, –≤ «–Ш—Б—Е–Њ–і–µ», –љ–µ–ґ–Є–≤–Њ–є –Т–Њ–Є–љ-–Ю—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є—В–µ–ї—М –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В –њ–Њ–і (—В–Њ—З–љ–µ–µ — –љ–∞) —Б–≤–Њ—О –і–ї–∞–љ—М –°—Г—А–Ї–∞ –Є –Ф–µ–≤–Њ—З–Ї—Г — –Њ–љ –і—Г—И—Г –Ч—П–±–Ї–Њ —Б–њ–∞—Б–∞–µ—В. –Ш –і–∞–µ—В –µ–Љ—Г –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –µ—Й–µ —А–∞–Ј, –Є –µ—Й–µ —А–∞–Ј, –Є –µ—Й–µ —А–∞–Ј –Є–і—В–Є —Б –С–Њ–≥–Њ–Љ –њ—А–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–є —Ж–µ–љ–Њ–є –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –ґ–Є–Ј–љ–µ–є –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є — –Є –њ–Њ–њ—Л—В–∞—В—М—Б—П –±—Л—В—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ. –Ф–≤—Г—Е—Ж–≤–µ—В–љ–∞—П –і–Є–љ–∞–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Б–њ–Є—А–∞–ї—М, –Љ–Њ—В–Є–≤ –њ–µ—Б–љ–Є —Б–Є—А–µ–љ, –≥–Є–њ–љ–Њ–Ј –Ј–≤—Г–Ї–Њ–Љ, —Ж–≤–µ—В–Њ–Љ –Є —Б–≤–µ—В–Њ–Љ –≤ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–Є. –Ч–Љ–µ—П, –Ї—Г—Б–∞—О—Й–∞—П —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Е–≤–Њ—Б—В. –Ы–µ–љ—В–∞ –Ь—С–±–Є—Г—Б–∞. –Р –≤–Њ—В —В–µ–њ–µ—А—М — –љ–∞—И —З–µ—А–µ–і –Њ–±—А–∞—В–Є—В—М—Б—П –Ї —Н–љ—Ж–Є–Ї–ї–Њ–њ–µ–і–Є–Є:
«–Ы–µ–љ—В–∞ –Ь—С–±–Є—Г—Б–∞ –Њ–±–ї–∞–і–∞–µ—В –ї—О–±–Њ–њ—Л—В–љ—Л–Љ–Є —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–∞–Љ–Є. –Х—Б–ї–Є –њ–Њ–њ—А–Њ–±–Њ–≤–∞—В—М —А–∞–Ј—А–µ–Ј–∞—В—М –ї–µ–љ—В—Г –≤–і–Њ–ї—М –њ–Њ –ї–Є–љ–Є–Є, —А–∞–≤–љ–Њ—Г–і–∞–ї—С–љ–љ–Њ–є –Њ—В –Ї—А–∞—С–≤, –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –і–≤—Г—Е –ї–µ–љ—В –Ь—С–±–Є—Г—Б–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—Б—П –Њ–і–љ–∞ –і–ї–Є–љ–љ–∞—П –і–≤—Г—Е—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ—П—П (–≤–і–≤–Њ–µ –±–Њ–ї—М—И–µ –Ј–∞–Ї—А—Г—З–µ–љ–љ–∞—П, —З–µ–Љ –ї–µ–љ—В–∞ –Ь—С–±–Є—Г—Б–∞) –ї–µ–љ—В–∞… –Х—Б–ї–Є —В–µ–њ–µ—А—М —Н—В—Г –ї–µ–љ—В—Г —А–∞–Ј—А–µ–Ј–∞—В—М –≤–і–Њ–ї—М –њ–Њ—Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ, –њ–Њ–ї—Г—З–∞—О—В—Б—П –і–≤–µ –ї–µ–љ—В—Л, –љ–∞–Љ–Њ—В–∞–љ–љ—Л–µ –і—А—Г–≥ –љ–∞ –і—А—Г–≥–∞… –Ф—А—Г–≥–Є–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л–µ –Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–∞—Ж–Є–Є –ї–µ–љ—В –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ—Л –Є–Ј –ї–µ–љ—В –Ь—С–±–Є—Г—Б–∞ —Б –і–≤—Г–Љ—П –Є–ї–Є –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–ї—Г–Њ–±–Њ—А–Њ—В–∞–Љ–Є –≤ –љ–Є—Е. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –µ—Б–ї–Є —А–∞–Ј—А–µ–Ј–∞—В—М –ї–µ–љ—В—Г —Б —В—А–µ–Љ—П –њ–Њ–ї—Г–Њ–±–Њ—А–Њ—В–∞–Љ–Є, —В–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—Б—П –ї–µ–љ—В–∞, –Ј–∞–≤–Є—В–∞—П –≤ —Г–Ј–µ–ї —В—А–Є–ї–Є—Б—В–љ–Є–Ї–∞. –†–∞–Ј—А–µ–Ј –ї–µ–љ—В—Л –Ь—С–±–Є—Г—Б–∞ —Б –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Њ–±–Њ—А–Њ—В–∞–Љ–Є –і–∞—С—В –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ—Л–µ —Д–Є–≥—Г—А—Л, –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–µ –њ–∞—А–∞–і—А–Њ–Љ–љ—Л–Љ–Є –Ї–Њ–ї—М—Ж–∞–Љ–Є».
–Ф–∞ —Г–ґ, —Д–Є–≥—Г—А—Л, –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –Њ—З–µ–љ—М –љ–µ–Њ–±—Л—З–љ—Л–µ. –Ш –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ, –њ–Њ–љ–∞—З–∞–ї—Г –Ї–∞–ґ—Г—Й–µ–µ—Б—П –±—А–Њ—Г–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ, –Є–Љ–µ–µ—В —Б–≤–Њ–Є —З–µ—В–Ї–Є–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Л, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ–Љ—Л–µ «–і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Њ–±–Њ—А–Њ—В–∞–Љ–Є». –Ф—А—Г–≥–Є–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є, –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П —Н—В–Њ–≥–Њ —А–Њ–Љ–∞–љ–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ—З–µ—В–∞–љ–Є–µ —Ж–µ–љ—В—А–Њ–±–µ–ґ–љ–Њ–є –Є —Ж–µ–љ—В—А–Њ—Б—В—А–µ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б–Є–ї: –Њ—В —Б–µ–±—П (–њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ, –ґ–µ–љ—Й–Є–љ, –Њ–Ј–љ–Њ–±–∞, –Њ–і–Є–љ–Њ—З–µ—Б—В–≤–∞, –њ–Њ—Б–µ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤–Ј—А–Њ—Б–ї–µ–љ–Є—П –Є —В. –і.) — –Ї —Б–µ–±–µ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –±–µ–Ј –≤—Б–µ–≥–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –±—Л –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Њ–є, —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–є, –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ–є, –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–≤–Њ–є, –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ–Њ–є –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є. –Ш –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –Є–і–µ—В –љ–µ –њ–Њ –Ї—А—Г–≥—Г, –∞ –њ–Њ —Б–њ–Є—А–∞–ї–Є: –Ї–∞–ґ–і—Л–є –≤–Є—В–Њ–Ї –і–µ–ї–∞–µ—В –Њ–±–Њ—А–Њ—В –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –Њ–±—Й–µ–є —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Њ—Б–Є, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–Љ —Г—А–Њ–≤–љ–µ. «–Ь–Є–љ—Г—В–Њ—З–Ї—Г, — —Б–Ї–∞–ґ–µ—В –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є —З–Є—В–∞—В–µ–ї—М. — –Ъ–∞–Ї–∞—П —В–∞–Ї–∞—П —Б–њ–Є—А–∞–ї—М —Б –љ–Њ–≤—Л–Љ —Г—А–Њ–≤–љ–µ–Љ? „–Ш—Б—Е–Њ–і“ — –љ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—П—П –љ–Њ–≤–µ–ї–ї–∞! –Я–Њ—Б–ї–µ –љ–µ–µ –Є–і–µ—В –µ—Й–µ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–∞—П „–Ѓ–ї–∞“ –Є, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, „–Ц–∞—В–≤–∞“, –≥–і–µ —Г–ґ–µ –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ —Б–њ–∞—Б–∞–µ—В». –Ф–∞, —Н—В–Њ –њ—А–∞–≤–і–∞. –Т–Є—И–љ–µ–≤—Л–є —Б–∞–і… –Я—А–Њ—Б—В–Є—В–µ, —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б–Њ —Б—В–∞—А—Л–Љ –і–Њ–Љ–Њ–Љ –њ–Њ–Ї—Г–њ–∞–µ—В –љ–Њ–≤—Л–є —Е–Њ–Ј—П–Є–љ. –Я—А–Є—З–µ–Љ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Є–Ј-–Ј–∞ –Ј–µ–Љ–ї–Є, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –ґ–Є—В—М –≤ —Н—В–Њ–Љ –і–Њ–Љ–µ –Њ–љ –љ–µ —Е–Њ—З–µ—В –Є –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В. –Р –≤–љ–µ –µ–≥–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –Є –љ–µ —Е–Њ—В—П—В –ґ–Є—В—М —В–µ, –Ї—В–Њ –±—Л–ї–Є –µ–≥–Њ –і—Г—И–Њ–є. –Ш –і–Њ–Љ –≥–Њ—А–Є—В –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –љ–Є–Љ–Є.
…–Ґ–∞–Љ –ґ–µ –ї—О–і–Є, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –љ–Њ–≤—Л–є —Е–Њ–Ј—П–Є–љ, –љ–Њ–≥–Њ–є –≤—Л–±–Є–≤–∞–µ—В –Ї–∞–ї–Є—В–Ї—Г –Є –њ—Л—В–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ–і–Њ–є—В–Є –±–ї–Є–ґ–µ, –љ–Њ —Н—В–Њ, –Ї —Б—З–∞—Б—В—М—О, —Г–ґ–µ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ. –Ф–Њ–Љ –≥–Њ—А–Є—В. –Ш –Ї–∞–Ї –≤–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ –і–Њ–Љ–µ, –≤ –љ–µ–Љ —Б–≥–Њ—А–∞–µ—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–Њ, —З—В–Њ –±—Л–ї–Њ –≤ –љ–µ–Љ –љ–µ–Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ–≥–Њ.
–Ґ–∞–Ї —З—В–Њ –ґ–µ —Н—В–Њ: –≥–Є–±–µ–ї—М —Б—В–∞—А—Л—Е –±–Њ–≥–Њ–≤ –≤ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–Љ –њ–Њ–ґ–∞—А–µ –Є–ї–Є –њ–ї–∞–Љ—П, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј—А–Њ–і–Є—В—Б—П —Д–µ–љ–Є–Ї—Б? –Р –Љ–Њ–ґ–µ—В, –Є —В–Њ –Є –і—А—Г–≥–Њ–µ? –Ш –љ–µ—Г–ґ–µ–ї–Є —Б–≥–Њ—А–µ–ї–Є —Б —Н—В–Є–Љ –і–Њ–Љ–Њ–Љ –Є –Ь—Н–є, –Є –°–∞—Ж—Г–Ї–Є, –Є, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –і–∞–ґ–µ –Т–∞—А—П? –Э–Њ –Ї–∞–Ї –ґ–µ —В–Њ–≥–і–∞… –ї—О–±–Њ–≤—М?
–Ь—Л, —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ—А—П–і–Њ—З–љ—Л–µ –ї—О–і–Є, –њ–Є—В–∞–µ–Љ –њ—А–Є—Б—В—А–∞—Б—В–Є–µ –Ї —Н—В–Є–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞–Љ, –Њ—Б—В–∞—О—Й–Є–Љ—Б—П –±–µ–Ј —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П. (–Р. –Я. –І–µ—Е–Њ–≤, «–Ю –ї—О–±–≤–Є»)
–Э–∞—В–∞–ї—М—П –С–Х–Ы–Ш–Э–°–Ъ–Р–ѓ
–Ъ—А–Є—В–Є–Ї–Њ–≤–∞—В—М –Љ–Њ–ґ–µ—В –ї—О–±–Њ–є –і—Г—А–∞–Ї, –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Є–Ј –љ–Є—Е –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Є–Љ –Є –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—О—В—Б—П.
–°–Є—А–Є–ї –У–∞—А–±–µ—В—В
–Я—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Ш—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –Њ–і–Є–љ–Њ–Ї–Є, –Є –Љ–µ–љ–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Є—Е —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–∞ –њ–Њ—Б—В–Є—З—М –Ї—А–Є—В–Є–Ї–∞.
–†. –Ь. –†–Є–ї—М–Ї–µ
–Х—Б–ї–Є –њ–µ—А–≤—Л–є —Н–њ–Є–≥—А–∞—Д —П –∞–і—А–µ—Б—Г—О —Б–µ–±–µ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г «–Ї—А–Є—В–Є–Ї–Њ–≤–∞—В—М» –њ–Њ—Б–ї–µ –±–ї–Є—Б—В–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —З—В–µ–љ–Є—П –∞–≤—В–Њ—А–∞ — –і–µ–ї–Њ —П–≤–љ–Њ –і—Г—А–∞—Ж–Ї–Њ–µ, —В–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є —Н–њ–Є–≥—А–∞—Д –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Љ–љ–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–µ–µ. «–Э–µ–≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–љ—Л–µ –≥–ї–∞–≥–Њ–ї—Л» –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ –†–∞—Д–µ–µ–љ–Ї–Њ — –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ–і–Є–љ–Њ–Ї–Є–є —А–Њ–Љ–∞–љ –Њ–± –Њ–і–Є–љ–Њ—З–µ—Б—В–≤–µ. –Ф–∞, –Њ–љ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ –≤ –Љ–Њ–і–љ–Њ–є —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П —Д–Њ—А–Љ–µ — –Љ–∞–ї–Њ–є –њ—А–Њ–Ј—Л — –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞ –љ–µ–є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –Ї—А–Є—В–Є–Ї–Є –≤–Є–і—П—В –±—Г–і—Г—Й–µ–µ –њ—А–Њ–Ј—Л –≤–Њ–Њ–±—Й–µ. –Э–Њ —Н—В–∞ —Д–Њ—А–Љ–∞ –і–ї—П –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ –†–∞—Д–µ–µ–љ–Ї–Њ, –≤–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е, –љ–µ –љ–Њ–≤–∞ («–Ъ—А–∞—В–Ї–∞—П –Ї–љ–Є–≥–∞ –њ—А–Њ—Й–∞–љ–Є–є»), –∞ –≤–Њ-–≤—В–Њ—А—Л—Е, — –љ–µ –і–∞–љ—М –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–є –Љ–Њ–і–µ. –Ь–∞–ї—Л–µ —Д–Њ—А–Љ—Л —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г—Б—Г–≥—Г–±–ї—П—О—В –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–µ –Њ–і–Є–љ–Њ—З–µ—Б—В–≤–∞, –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞—П –≤—Б–µ –љ–∞—А–∞—Б—В–∞—О—Й—Г—О –њ–Њ –Љ–µ—А–µ —З—В–µ–љ–Є—П –Ї–∞—А—В–Є–љ—Г —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В–∞—А–љ–Њ–≥–Њ, —А–∞–Ј–Њ—А–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ, –Њ—В—З—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є –Њ—В—З—Г–ґ–і–∞—О—Й–µ–≥–Њ (–≤—Б–µ—Е –Њ—В–Њ –≤—Б–µ—Е) –Љ–Є—А–∞.
–Ю–і–Є–љ–Њ—З–µ—Б—В–≤–Њ —Н—В–Њ —Г—Б–Є–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–µ–Љ–Њ—Б—В—М—О –≤—Б–µ–≥–Њ –Є –≤—Б–µ—Е –≤ –Љ–Є—А–µ —А–Њ–Љ–∞–љ–∞. –°–∞–Љ –∞–≤—В–Њ—А –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –љ–Њ–≤–µ–ї–ї –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–∞–µ—В: «–£–≤–Њ–і—П –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г, –∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В, –Ї—В–Њ –Ј–љ–∞–µ—В, –Є –≤ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ —Б—А–∞–Ј—Г…» –Ґ–∞–Ї –Є –њ–Є—И–µ—В, –љ–Њ –≤—Б–µ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Є –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ —Б—Е–Њ–і—П—В—Б—П, –љ–∞–ї–∞–≥–∞—О—В—Б—П –Є –≤—А–∞—Й–∞—О—В—Б—П. –•–Њ—В—П –≥–ї–∞–≥–Њ–ї—Л –љ–µ–≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–љ—Л–µ, –≤ —А–Њ–Љ–∞–љ–µ –њ–Њ—З—В–Є —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–љ—Л–є —А–Є—В–Љ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—П, –њ—А–Є—А–∞–≤–љ–Є–≤–∞–љ–Є—П, –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Њ–±–Њ—А–Њ—В–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–∞. –≠—В–Њ –≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ —Б–Љ—Л—Б–ї–∞, –Ї–∞–Ї –µ–Љ—Г –Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ, –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ, –љ–Њ –Є–Љ–µ–µ—В —Б–≤–Њ–Є –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л. –Ъ–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ—Л —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ–Љ—Б—П –≤ –ї–Њ–ґ–љ–Њ –ї–µ–≥–Ї–Њ–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є, —З—В–Њ –≥–µ—А–Њ—О –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ — –≤—Б–µ, –Ї—А–Њ–Љ–µ –Њ—Б—В—А–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—П –Є –±–ї—Г–і–Њ–Љ—Л—Б–ї–Є—П –њ–µ—А–µ—В–µ–Ї–∞—О—Й–Є—Е –і—А—Г–≥ –≤ –і—А—Г–≥–∞ —Д—А–∞–Ј–Њ—З–µ–Ї, –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ —В–Њ. –Т–њ–µ—А–≤—Л–µ –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤ –њ—А–µ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, –≥–µ—А–Њ–є –Ї–∞–Ї –±—Л –љ–µ–≤–Ј–љ–∞—З–∞–є, –њ–Њ —Б–ї—Г—З–∞—О, –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–µ—В: «–Ґ–∞–Ї —П –≤—Л—П—Б–љ–Є–ї, —З—В–Њ –Љ–Њ–≥—Г –≤–Љ–µ—Б—В–Є—В—М –љ–µ –≤—Б–µ «. –Т—А–∞—Й–∞—О—В—Б—П, –њ—А–Њ—Б–≤–µ—З–Є–≤–∞—П –і—А—Г–≥ –≤ –і—А—Г–≥–µ, –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Є –≤–µ—Б–Є: –њ–µ—А–µ–і –љ–∞–Љ–Є — –≥–Њ—А–Њ–і –Ґ–Њ–Ї–Њ—А–Њ–і–Ј–∞–≤–∞ –≤ –£–Ї—А–∞–Є–љ–µ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –µ—Б—В—М –Ї–∞—Д–µ –љ–∞ —А–Њ–Ј–µ, –Ј–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –њ—А–Њ—З–Є—В—Л–≤–∞–µ—В—Б—П «–љ–∞ —Г–ї–Є—Ж–µ –†–Њ–Ј—Л –Ы—О–Ї—Б–µ–Љ–±—Г—А–≥», —З–µ—А–љ—Л–µ –њ–Њ—Б–µ–ї–Ї–Њ–≤—Л–µ –Ј–∞–±–Њ—А—Л, –Є–≥—А–∞ –≤ –Ї–∞–Ј–∞–Ї–Є-—А–∞–Ј–±–Њ–є–љ–Є–Ї–Є, —Б–Љ–Њ—А–Њ–і–Є–љ–Њ–≤—Л–µ –Є –Ї—А—Л–ґ–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤—Л–µ –Ї—Г—Б—В—Л –≤ –њ–∞–ї–Є—Б–∞–і–љ–Є–Ї–∞—Е –Є —В. –њ. –Т –Њ–±—Й–µ–Љ, —В–∞ –µ—Й–µ –ѓ–њ–Њ–љ–Є—П. –Т —А–Њ–Љ–∞–љ–µ —В—А–Є (–њ–Њ –Љ–µ–љ—М—И–µ–є –Љ–µ—А–µ) –≥–µ—А–Њ—П — –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ «—В—А–Є –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ» — –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А (–ї–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –≥–µ—А–Њ–є), –Ґ–Њ—В–Њ—А–Њ (–і–≤–Њ–є–љ–Є–Ї –≥–µ—А–Њ—П) –Є –Ч—П–±–Ї–Њ (–њ–µ—А–≤—Л–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–є –≥–µ—А–Њ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞), –Є –≤—Б–µ –Њ–љ–Є — –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є — –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ –Њ—З–µ—А–µ–і–Є, –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –≤–Љ–µ—Б—В–µ. –Ш –≤ –љ–µ–Љ, –Ї–∞–Ї –Є –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–≥–Њ –Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Л, –≤—Б–µ–≥–Њ –і–≤–µ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л: –°–∞—Ж—Г–Ї–Є –Є –Ь—Н–є, –Њ–±–µ –µ—Й–µ —Б —В–µ–Љ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Њ–Љ —В–Є–њ–∞: «–Х—Б—В—М –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л, —Б—Л—А–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ —А–Њ–і–љ—Л–µ… " –Ш –≤—Б–µ–Љ –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ, —З—В–Њ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ –≤ —А–Њ–Љ–∞–љ–µ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ, –∞ –≤–Њ—В –≥–µ—А–Њ–Є–љ–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–≤–µ, –Є –Є—Е –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ, —З—В–Њ–±—Л –≤–Љ–µ—Б—В–Є—В—М –≤ —Б–µ–±—П –≤—Б–µ –≤—А–∞—Й–∞—О—Й–µ–µ—Б—П –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ. –Т –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–µ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є, –љ–∞ –Љ–Њ–є –≤–Ј–≥–ї—П–і, –Њ–і–Є–љ–Њ—З–µ—Б—В–≤–Њ –≤ —А–Њ–Љ–∞–љ–µ —Г—Б–Є–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —О–Љ–Њ—А–Њ–Љ. –Т —А–Њ–Љ–∞–љ–µ –љ–µ—В –њ–∞—Д–Њ—Б–∞ –њ–µ—З–∞–ї–Є –Є–ї–Є –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–≥–Њ —В—А–∞–≥–Є–Ј–Љ–∞, —Б–Ї–Њ—А–µ–µ, –љ–∞ –і—А—Г–≥–Њ–Љ –њ–Њ–ї—О—Б–µ — –і–∞–ґ–µ –љ–µ –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ—Б—В—М –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є –±–Њ–ї—М, –∞ –ґ–µ—Б—В–Ї–Њ—Б—В—М –Њ–і–Є–љ–Њ—З–µ—Б—В–≤–∞, –Є —О–Љ–Њ—А –≤ —Н—В–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ — –љ–µ –њ–Њ–ї—О—Б, –Њ–љ — —В–∞–Ї–Њ–є –ґ–µ, –ґ–µ—Б—В–Ї–Є–є, –њ—А–∞–≤–і–Є–≤—Л–є, –≤ –Њ–±—Й–µ–Љ, –Ї–∞–Ї –ґ–Є–Ј–љ—М — –Ї–∞–Ї–Њ–є –µ—Б—В—М… –Ф–∞–ґ–µ –ї—Г—З—И–Є—Е —В–Њ–Љ—Г –њ—А–Є–Љ–µ—А–Њ–≤ –≤ —В–µ–Ї—Б—В–µ –љ–∞–±–µ—А–µ—В—Б—П –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ. …–Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї —Б–Њ–ї–і–∞—В—Г — –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є—В–µ–ї—О, –љ–∞ –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ „–Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –У–Њ–≥–Њ–ї—М“, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ —Н—В–Њ — –µ–≥–Њ —Б–Ї—Г–ї—М–њ—В–Њ—А. „–І—В–Њ –і–µ–ї–∞–µ—В –°–Њ–ї–і–∞—В-–Ю—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є—В–µ–ї—М —Г –љ–∞—Б –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ? –Ю–љ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –Є –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–∞–µ—В. –≠—В–Њ –Т–Њ–Є–љ –Є –≤ –≤—Л—Б—И–µ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –њ—А–Њ—Б–≤–µ—В–ї–µ–љ–љ–∞—П —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В—М, –Њ–љ —Б—В–Њ–Є—В –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ–ї–∞—Й–µ, —Б –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Њ–Љ –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г —А–µ–Ї–Є –Є –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ —Б–њ–Є—В. –Х–≥–Њ –±–Њ–Є—В—Б—П —Д–∞—И–Є–Ј–Љ, –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Є–Ј–Љ. –Т—Б—П–Ї–Њ–µ –∞—В–µ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Љ—А–∞–Ї–Њ–±–µ—Б–Є–µ –Є –њ—А–Њ—З–Є–µ –≤—А–∞–≥–Є —А–Њ–і–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ“. …–§–∞—И–Є—Б—В—Л, –љ–µ –њ—А–Є–≤—Л—З–љ—Л–µ –і–ї—П –љ–∞—Б, —Е—А–µ—Б—В–Њ–Љ–∞—В–Є–є–љ—Л–µ, –∞ —В–µ, —З—В–Њ —А—П–і–Њ–Љ —Б –љ–∞–Љ–Є –Ї–∞–ґ–і—Л–є –і–µ–љ—М. „–Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А —И–Ї–Њ–ї—Л, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Љ—Л —Е–Њ–і–Є–ї–Є —Б –Ґ–Њ—В–Њ—А–Њ, –±—Л–ї —Е–Њ—В—П –Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є, –љ–Њ, –±–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ, —Д–∞—И–Є—Б—В. –Ь–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–µ —Д–∞—И–Є—Б—В—Л –ґ–Є–ї–Є –≤ —Б–Њ—Б–µ–і–љ–µ–Љ –њ–Њ—Б–µ–ї–Ї–µ“. …–Ю–Ї—В—П–±—А—П—В—Б–Ї–Є–є –Ј–љ–∞—З–Њ–Ї, „–∞ –≤ –љ–µ–Љ –ї–Є—Ж–Њ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Њ–≥–Њ, –њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ–≥–Њ –љ–∞ –љ–µ–Ї—А–∞—Б–Є–≤—Г—О –Ї—Г–і—А—П–≤—Г—О –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Г –£–ї—М—П–љ–Њ–≤–∞“. …–Ы—О–±–Є–Љ–∞—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П „–≤—Л–Ї—Г—А–Є–≤–∞–ї–∞ —Б–Є–≥–∞—А–µ—В—Л, –Ј–∞–Ї—Г—Б—Л–≤–∞–ї–∞ –Љ—П—В–љ—Л–Љ–Є –Ї–Њ–љ—Д–µ—В–∞–Љ–Є –Є –Ј–∞–њ–Є–≤–∞–ї–∞ –≤—Б–µ —Н—В–Њ —Б–Є—В—А–Њ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –і—А—Г–≥–Є—Е –љ–∞—А–Ї–Њ—В–Є–Ї–Њ–≤ –Њ–і–Є–љ–Њ–Ї–Њ–є —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Њ–є —Г—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–µ —В–Њ–≥–і–∞ –±—Л–ї–Њ –љ–µ –і–Њ—Б—В–∞—В—М“. …–У–µ—А–Њ–є, –Є–і—Г—Й–Є–є –≤ –∞—А–Љ–Є—О –Ј–∞—Й–Є—Й–∞—В—М –†–Њ–і–Є–љ—Г: „–Ь–∞–Љ–∞ —Б –њ–∞–њ–Њ–є –Њ—Б—В–∞—О—В—Б—П —В—Г—В, –∞ —П —З—В–Њ –ґ–µ? –Ъ–Њ–≥–Њ –Љ–љ–µ –Ј–∞—Й–Є—Й–∞—В—М —В–∞–Љ, –≥–і–µ –Є—Е –љ–µ—В? –Я—А–Є –≤—Б–µ–Љ —Б–≤–Њ–µ–Љ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–Є, —П –Є —В—Г—В –≤—А—П–і –ї–Є –Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞—Й–Є—Й—Г, –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П —Г–ґ–µ –њ—А–Њ —В–∞–Љ“.
…„–Ц–µ–љ–Є—В—М—Б—П —П –љ–∞—З–∞–ї —А–∞–љ–Њ, –ї–µ—В –≤ —И–µ—Б—В–љ–∞–і—Ж–∞—В—М — —Б–µ–Љ–љ–∞–і—Ж–∞—В—М“», «–љ–∞ —В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В —П —З—В–Њ-—В–Њ –і–∞–≤–љ–Њ –љ–µ –ґ–µ–љ–Є–ї—Б—П».
…–†–∞–Ї–Є –њ–Њ–ї–Ј–∞—О—В –≤ —Е–Њ–ї–Њ–і–µ, –≤ –Є–ї–µ. «–Я–Њ–ї–Ј–∞—О—В, —З—В–Њ-—В–Њ –µ–і—П—В. –Ъ–∞–Ї —В–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ? –Э–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ. –Ь–∞—А–≥–Є–љ–∞–ї—Л».
–Х—Б—В—М —Ж–µ–ї—Л–µ –љ–Њ–≤–µ–ї–ї—Л, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤–Ј—П—В—М —Ж–Є—В–∞—В—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ–µ–љ—Л –і–Њ –Ї—А–∞–µ–≤ —Н—В–Є–Љ —О–Љ–Њ—А–Њ–Љ –Њ–і–Є–љ–Њ—З–µ—Б—В–≤–∞, –±–µ–Ј–Њ—В–≤–µ—В–љ—Л–Љ –Є –±–µ–Ј–љ–∞–і–µ–ґ–љ—Л–Љ, –љ–Њ –љ–µ–Є–Љ–Њ–≤–µ—А–љ–Њ —Б–Љ–µ—И–љ—Л–Љ. –Ь–Њ–є «—И–Њ—А—В –ї–Є—Б—В», –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–є —Б–њ–Є—Б–Њ–Ї –≤—Л–≥–ї—П–і–Є—В —В–∞–Ї: «–Ц–µ–љ–Є—В—М–±–∞» — «–Ц–µ–љ–Є—В—М–±–∞ — 2» — «–Ц–Є–Ј–љ—М –Ї–∞–Ї –ї–Њ–≤–ї—П –њ—А–µ—Б–љ–Њ–≤–Њ–і–љ—Л—Е —А—Л–±» — «–Ч–∞–Ї–Њ—А–Љ–Є–ї–Є –љ–∞—Б–Љ–µ—А—В—М» — «–°—Г—А—З–Є–љ—Л» — «–Ы–∞—А—П». –Ф—Г–Љ–∞—О, —Г –і—А—Г–≥–Є—Е —З–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–є –Њ–љ — —Б–≤–Њ–є. –Т —В–Њ–Љ –Є –њ—А–µ–ї–µ—Б—В—М –Њ–і–Є–љ–Њ–Ї–Њ–≥–Њ –≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—П: –Ї–∞–ґ–і—Л–є — —Б–∞–Љ.
–†–Њ–Љ–∞–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ –†–∞—Д–µ–µ–љ–Ї–Њ –Њ—З–µ–љ—М —Д–Є–ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ–љ. –Т—Б–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ–Є —Д–Є–ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Њ—В—Б—Л–ї–Ї–∞–Љ–Є –љ–∞–њ–Њ–ї–љ–µ–љ—Л –Є —Б–∞–Љ–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ, –Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Є–Ј—П—Й–љ–µ–є—И–Є–µ —Н–њ–Є–≥—А–∞—Д—Л, –Є –Є–≥—А–∞ —Б–ї–Њ–≤–∞—А–љ—Л–Љ–Є —Б—В–∞—В—М—П–Љ–Є, –Є –ґ–Њ–љ–≥–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б–њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –≥–ї–∞–≥–Њ–ї–Њ–≤, –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і—Л —Б —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞ –ї–∞—В—Л–љ—М, –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–є, —Г–Ї—А–∞–Є–љ—Б–Ї–Є–є… –°–Ї–∞–Ј–Ї–Є «–†–µ–і—М–Ї–∞» –Є «–Ы–Њ—И–∞–і–Є–љ–∞—П –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞», –і–∞ –Є –і—А—Г–≥–Є–µ — –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–µ—А–µ–њ–µ—В—Л–µ, –њ–µ—А–µ—Б–Љ–µ—П–љ–љ—Л–µ —Б–Ї–∞–Ј–Њ—З–љ—Л–µ —Б—О–ґ–µ—В—Л –Є –Є—Е –њ—А—П–Љ–Њ-—В–∞–Ї–Є –њ—А–Њ–њ–њ–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –Є–љ—В–µ—А–њ—А–µ—В–∞—Ж–Є—П. –†—Л—Ж–∞—А—Б–Ї–Є–µ –Љ–Њ—В–Є–≤—Л –≤–ї—О–±–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ —Б–ї—Г—Е–∞–Љ –Є –њ–Њ—А—В—А–µ—В—Г (–≤ —А–Њ–Љ–∞–љ–µ — –њ–Њ –≥–Њ–ї–Њ—Б—Г), «–ѓ –љ–∞ –њ—А–∞–≤—Г—О –љ–Њ–≥—Г –љ–∞–і–µ–ї–∞ —Б–∞–љ–і–∞–ї–µ—В—Г —Б –ї–µ–≤–Њ–є –љ–Њ–≥–Є», «–Ю—В–Ї—Г–њ–Њ—А–Є —И–∞–Љ–њ–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±—Г—В—Л–ї–Ї—Г –Є–ї—М –њ–µ—А–µ—З—В–Є –ґ–µ–љ–Є—В—М–±—Г –љ–Њ–Љ–µ—А —А–∞–Ј»… –Ь–љ–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞—А–љ—Л—Е —Б—В–∞—В–µ–є –і–∞–ґ–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–≤–∞—В–Њ –і–ї—П —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П. –•–Њ—В—П, —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В–Є —А–∞–і–Є, –љ—Г–ґ–љ–Њ –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–Є –±—Л–≤–∞—О—В –њ—А–Њ—Б—В–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ—Л. –Ъ–∞–Ї —Н—В–∞, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А: «–Ш–≥—А—Г—И–Ї–∞ -… –Ц–Є–Ј–љ—М –љ–µ –Є., –∞ —В—А—Г–і–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ. –Ы.–Ґ–ї—Б—В–є. –≠—В–Њ –≤–∞–Љ –љ–µ –Є.! –Ы.–Ґ–ї—Б—В–є –±—Л–ї, –Љ–µ–ґ–і—Г –њ—А–Њ—З–Є–Љ, —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –њ—А–∞–≤. –Ц–Є–Ј–љ—М –љ–µ –Є. –Ь–љ–µ —Г–ґ–µ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М».
–Э–Њ –µ—Б–ї–Є —Д–Є–ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–љ–Њ—Б—В—М—О —А–Њ–Љ–∞–љ –Т.–†–∞—Д–µ–µ–љ–Ї–Њ –Љ–µ–љ—П –љ–µ —Г–і–Є–≤–Є–ї, —В–Њ, –љ–∞ —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ, –Њ–љ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Є –Њ—З–µ–љ—М –±–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ — –≤ –љ–µ–Љ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–µ (–Є, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, —В–Њ–ґ–µ –Є–Ј–ї–Є—И–љ–µ–µ) –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–є –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е, —А–∞—Б—В–µ–љ–Є–є, –љ–∞—Б–µ–Ї–Њ–Љ—Л—Е…
–°–∞–Љ–Њ–µ –ґ–µ —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Е–Њ—В—П —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В–∞—А–љ—Л–є —А–Њ–Љ–∞–љ –≤ –љ–Њ–≤–µ–ї–ї–∞—Е, –љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ–±–Њ–є —Ж–µ–ї—М–љ—Л–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Љ, –Њ–љ –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є—В —Б–µ–±–µ, —А–∞—Б–њ–∞–і–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ –і–≤–∞ –Ї—А—Г–≥–∞ –≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—П. –Ь–љ–µ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, —З—В–Њ —Н—В–Њ, –њ–Њ—З—В–Є –Ї–∞–Ї —Г –Ь–Є–ї–Њ—А–∞–і–∞ –Я–∞–≤–Є—З–∞ –≤ «–•–∞–Ј–∞—А—Б–Ї–Њ–Љ —Б–ї–Њ–≤–∞—А–µ» — «–Ь—Г–ґ—Б–Ї–∞—П –Є –ґ–µ–љ—Б–Ї–∞—П –≤–µ—А—Б–Є–Є». –Х—Б–ї–Є –±—Л —П –љ–µ –Ј–љ–∞–ї–∞ –Њ —В–Њ–Љ, –Ї—В–Њ –∞–≤—В–Њ—А –њ–µ—А–≤—Л—Е –і–≤—Г—Е —З–∞—Б—В–µ–є —А–Њ–Љ–∞–љ–∞, —П –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї–∞ –±—Л, —З—В–Њ —Н—В–Њ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞. –Р —Б —В—А–µ—В—М–µ–є —З–∞—Б—В–Є —Б–Њ–±—Л—В–Є—П –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—О—В—Б—П –≤ –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–є –Є–љ—В–µ—А–њ—А–µ—В–∞—Ж–Є–Є, –і–∞–ґ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П –љ–Њ–≤–µ–ї–ї –і—Г–±–ї–Є—А—Г—О—В—Б—П (—В–µ–њ–µ—А—М —Г–ґ–µ –Ї–∞–Ї –≤ «–Э–µ–≤—Л–љ–Њ—Б–Є–Љ–Њ–є –ї–µ–≥–Ї–Њ—Б—В–Є –±—Л—В–Є—П» –Ь–Є–ї–∞–љ–∞ –Ъ—Г–љ–і–µ—А—Л — –Ј–µ—А–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–є –Є –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–µ—А—Б–Є–є –Њ–і–љ–Є—Е –Є —В–µ—Е –ґ–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є–є, –Њ–і–љ–Њ–є –Є —В–Њ–є –ґ–µ –ґ–Є–Ј–љ–Є, –і–≤—Г—Е –љ–µ—Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–Є–Љ—Л—Е –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–≤ –љ–∞ –њ–µ—А–µ–ґ–Є—В–Њ–µ). –Э–∞–њ–Њ–Љ–љ—О, —З—В–Њ –њ–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г –њ–Њ–≤–Њ–і—Г –њ–Є—И–µ—В –Ѓ–ї–Є—П –Ъ—А–Є—Б—В–µ–≤–∞: «–Ц–µ–љ—Б–Ї–Њ–µ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ — —Б–µ–Љ–Є–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ, –≤ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ — —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –§–µ–Љ–Є–љ–љ—Л–є —П–Ј—Л–Ї — —А–Є—В–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Є –Њ–±—К–µ–і–Є–љ—П—О—Й–Є–є, —Н—В–Њ—В —П–Ј—Л–Ї –љ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –Є –љ–µ —А–∞–љ–≥–Є—А—Г–µ—В –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞ –Є —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В—Л —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–µ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є–Ј–Є—А—Г–µ—В –Њ–і–љ–Є –≤–µ—Й–Є —З–µ—А–µ–Ј –і—А—Г–≥–Є–µ. –° –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П —В–∞–Ї–Њ–є —П–Ј—Л–Ї —Е–∞–Њ—В–Є—З–µ–љ, –Є–Ј–Љ–µ–љ—З–Є–≤, —В–µ–Ї—Г—З». –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–∞–Ї–Њ–≤—Л –њ–µ—А–≤—Л–µ –і–≤–µ —З–∞—Б—В–Є —А–Њ–Љ–∞–љ–∞ — «–Я—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і—М –≤ —Б—В–Є–ї–µ –љ—М—О —Н–є–і–ґ» –Є «–Я—А–Њ—Б—В—Л–µ –і–µ–ї–∞». –Т —В—А–µ—Е –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е —З–∞—Б—В—П—Е –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤–Њ —Б—В–Є–ї—П —Б–Љ–µ–љ—П–µ—В—Б—П –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –≥–µ—А–Њ–µ–≤, —Б–Њ–±—Л—В–Є–є, —Б—О–ґ–µ—В–∞. –Т–Љ–µ—Б—В–Њ —Б–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–љ–Є—П –≤—А–µ–Љ–µ–љ –Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В –Є—Е —А–∞–Ј–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–љ–Є–µ, –≤—В–Њ—А–≥–∞–µ—В—Б—П –љ–∞—Г—З–љ—Л–є —П–Ј—Л–Ї (—Б–ї–Њ–≤–∞—А–Є, –ї–∞—В—Л–љ—М), –љ–Њ–≤–µ–ї–ї—Л –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–∞—О—В –њ—А–Є—В—З–µ–≤—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –Є —А–∞–Ј–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞—О—В—Б—П –≤ –Њ–±—К–µ–Љ–µ, —Б—В–∞–љ–Њ–≤—П—В—Б—П —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–µ–µ, –Љ–љ–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –і–∞–ґ–µ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–є –Љ–µ–љ—М—И–µ (4 —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–љ—Л—Е –≤—Б—В–∞–≤–Ї–Є –љ–∞ 2 –≥–ї–∞–≤—Л –Є 4 –љ–∞ —В—А–Є). –≠—В–Є –і–≤–µ –≤–µ—А—Б–Є–Є —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Г–≤–Є–і–µ—В—М –Є –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–і–µ—А–љ–Є—Б—В—Б–Ї—Г—О (–ґ–µ–љ—Б–Ї—Г—О, –њ–Њ–ї–љ—Г—О –њ–Њ—З—В–Є –њ—А—Г—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–є –Є –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Њ–≤), –Є –њ–Њ—Б—В–Љ–Њ–і–µ—А–љ–Є—Б—В—Б–Ї—Г—О (–Љ—Г–ґ—Б–Ї—Г—О, –њ–Њ–ї–љ—Г—О –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ—Л—Е —А–µ–Љ–Є–љ–Є—Б—Ж–µ–љ—Ж–Є–є –Є –∞–ї–ї—О–Ј–Є–є). –Э–Њ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ, –≤ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ–Њ–Љ —Д–Є–љ–∞–ї–µ —А–Њ–Љ–∞–љ–∞ –Њ–љ–Є —Б–Њ—И–ї–Є—Б—М — —Б–µ–Љ–Є–Њ—В–Є–Ї–∞ –Є —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є–Ј–Љ, –Љ–Њ–і–µ—А–љ –Є –њ–Њ—Б—В–Љ–Њ–і–µ—А–љ, –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–µ –Є –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–µ — –≤ —Б—Ж–µ–љ–µ –њ–Њ–ґ–∞—А–∞, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –≥–Њ—А–Є—В –≤—Б–µ –љ–µ–≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–љ–Њ–µ. –Я—А–Є—И–ї–Є –љ–Њ–≤—Л–µ —Е–Њ–Ј—П–µ–≤–∞ –Є –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В —Б–њ–∞—Б—В–Є, –∞ —Б–њ–∞—Б–∞—В—М –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –і–∞ –Є –љ–µ –љ—Г–ґ–љ–Њ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ —Н—В–∞ –ґ–Є–Ј–љ—М –њ—А–Њ–ґ–Є—В–∞: —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ –Є –љ–µ –Њ—З–µ–љ—М, –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ –Є –Њ—В–≤—А–∞—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –і–µ—В—Б–Ї–Є –Є —О–љ–Њ—И–µ—Б–Ї–Є. –Ш —В–µ–њ–µ—А—М, –Ј–∞ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞–Љ–Є —А–Њ–Љ–∞–љ–∞, –Є–і–µ—В –њ—А–Њ–Ј–∞–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –≤–Ј—А–Њ—Б–ї–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ–µ—З–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ –љ–µ–≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–љ–Њ–µ –Љ—Г–і—А—Л–є –Њ–і–Є–љ–Њ–Ї–Є–є –∞–≤—В–Њ—А.
–Х–ї–µ–љ–∞ –Ґ–Р–†–Р–Э–Х–Э–Ъ–Ю –Ф–Ю–Э–Х–¶–Ъ
«–Э–µ–≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–љ—Л–µ –≥–ї–∞–≥–Њ–ї—Л» –љ—Г–ґ–љ–Њ —З–Є—В–∞—В—М –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ. –†–Њ–Љ–∞–љ –љ–µ –Є–Ј —В–µ—Е –Ї–љ–Є–≥, —З—В–Њ –њ—А–Њ–≥–ї–∞—В—Л–≤–∞—О—В—Б—П –Ј–∞ –Њ–і–Є–љ –њ—А–Є—Б–µ—Б—В, –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–Љ –і—Л—Е–∞–љ–Є–Є. –£ –Љ–µ–љ—П, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –љ–∞ —Н—В–Є 150 —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж —Г—И–ї–∞ –љ–µ–і–µ–ї—П. –Ш —Н—В–Њ –њ—А–Є—В–Њ–Љ, —З—В–Њ —А–Њ–Љ–∞–љ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ, –≤–µ—А–љ–µ–µ, —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Є –≤–µ—Б–µ–ї–Њ (–Ї–∞–Ї –Є –Њ–±–µ—Й–∞–љ–Њ –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–µ–є). –Т—Б–µ –і–µ–ї–Њ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –љ–Њ–≤–µ–ї–ї—Л —Е–Њ—З–µ—В—Б—П –Њ—В–ї–Њ–ґ–Є—В—М –Ї–љ–Є–≥—Г, –њ–Њ—Е–Њ–і–Є—В—М, –њ–Њ–і—Г–Љ–∞—В—М, –µ—Й–µ —А–∞–Ј –њ–µ—А–µ—З–Є—В–∞—В—М —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж—Г-–і—А—Г–≥—Г—О. –Я—А–Њ—Б–µ—П—В—М –њ—А–Њ—З–Є—В–∞–љ–љ–Њ–µ —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М —Б–µ–±—П. –Ґ–Њ—З–љ–µ–µ, —Б–µ–±—П — —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М –њ—А–Њ—З–Є—В–∞–љ–љ–Њ–µ. –Э–∞—З–љ—Г —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А –Њ –Ї–љ–Є–≥–µ —А–∞—Б—Е–Њ–ґ–µ–є —Д—А–∞–Ј–Њ–є: «–Э–µ–≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–љ—Л–µ –≥–ї–∞–≥–Њ–ї—Л» — –∞–≤—В–Њ–±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —А–Њ–Љ–∞–љ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤—Г–µ—В—Б—П –Њ… –Ю —З–µ–Љ, —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –≤ –љ–µ–Љ –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤—Г–µ—В—Б—П? –Т—А–Њ–і–µ –±—Л —Д–∞–±—Г–ї–∞, –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П —Г–ґ–µ –Њ —Б—О–ґ–µ—В–µ, –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В –Ї–∞–Ї –љ–∞ —Г—А–Њ–≤–љ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —А–Њ–Љ–∞–љ–∞, —В–∞–Ї –Є –љ–∞ —Г—А–Њ–≤–љ–µ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –≥–ї–∞–≤-–љ–Њ–≤–µ–ї–ї–Њ–Ї. –Э–Њ –і–∞–ґ–µ –µ—Б–ї–Є –Љ—Л –≤—Л—З–ї–µ–љ–Є–Љ –ї–Є–љ–Є—О –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –≥–µ—А–Њ—П –Є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–ґ–µ–Љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–Њ, —З—В–Њ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Ї –љ–µ–Љ—Г –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –Љ—Л –љ–Є –љ–∞ —И–∞–≥ –љ–µ –њ—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є–Љ—Б—П –Ї –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—О «–Э–µ–≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–љ—Л—Е –≥–ї–∞–≥–Њ–ї–Њ–≤». –Т—А–µ–Љ—П –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П — –њ–Њ–Ј–і–љ–Є–µ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–µ, –Љ–µ—Б—В–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П — –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Ї, «—Б–Њ —Б—В—А–∞–љ–љ—Л–Љ, –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П, –і–ї—П –£–Ї—А–∞–Є–љ—Л –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Ґ–Њ–Ї–Њ—А–∞–і–Ј–∞–≤–∞». –Э–Њ —Н—В–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—В–њ—А–∞–≤–љ–∞—П —В–Њ—З–Ї–∞ –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Ф–∞–ї–µ–µ, –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П, — –≤–µ–Ј–і–µ. –Т—Б–µ, –Њ —З–µ–Љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –Ї–∞–Ї –±—Л –њ–Њ—Е–Њ–і—П –Є–ї–Є –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –≤—Б—В–∞–≤–љ–Њ–є –љ–Њ–≤–µ–ї–ї—Л (–љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≥–ї–∞–≤—Л –Њ —Б–≤—П—В–Њ–Љ –Т–ї–∞—Б–Є–Є, –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–Љ –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Є–Ї–µ –Ш–Њ–∞–љ–љ–µ –Ъ–∞—Б–∞—В–Ї–Є–љ–µ), –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–∞–Љ—Г —Б—Г—В—М —А–Њ–Љ–∞–љ–∞, –≤—Б–µ —Н—В–Њ —В–Њ–ґ–µ — –Њ –≥–µ—А–Њ–µ. –С–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ, —Б–∞–Љ–Њ –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Њ –ґ–Є–Ј–љ–Є –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –≥–µ—А–Њ—П –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ—П —Б—В—А–µ–Љ–Є—В—Б—П —Г–є—В–Є –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г, –Њ—В–≤–ї–µ–Ї–∞–µ—В—Б—П, –љ–∞ –њ–µ—А–≤—Л–є –≤–Ј–≥–ї—П–і, –љ–∞ –љ–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ—Л–µ –і–µ—В–∞–ї–Є, —В–∞–Ї —З—В–Њ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –Њ —Б–Њ–±—Л—В–Є–Є –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є –≥–µ—А–Њ—П –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П —З–µ–≥–Њ (–Є–ї–Є –Ї–Њ–≥–Њ) —Г–≥–Њ–і–љ–Њ, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ –≥–µ—А–Њ—П. –І—В–Њ–±—Л –Њ—В–≤–µ—В–Є—В—М –љ–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г —В–∞–Ї –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В, –Њ–±—А–∞—В–Є–Љ—Б—П –Ї —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ —А–Њ–Љ–∞–љ–∞. –Ъ–∞–Ї –Љ–љ–µ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –і–ї—П –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –Ї–љ–Є–≥–Є –≤–∞–ґ–љ–Њ –Є–Љ–µ—В—М –≤ –≤–Є–і—Г —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Л.
–Я–µ —А–≤ –Њ –µ. –Ґ–µ–Ї—Б—В –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ –њ–Њ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ—Г —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ —В–µ–Ї—Б—В–∞, –∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–∞—Ж–Є—П—Е (–њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤—Л—Е) –Є –љ–∞ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–Є –Є —Г—А–∞–≤–љ–Є–≤–∞–љ–Є–µ –і–∞–ї–µ–Ї–Є—Е –і—А—Г–≥ –Њ—В –і—А—Г–≥–∞ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–є. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Є –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞—О—В —Б—Г—А–Њ–Ї, —Б—Г—А–і–Є–љ–Ї–∞, —Б–∞—А–і–Є–љ–Ї–∞, –њ–Њ–ї—Л–љ—М –Є –њ–Њ–ї—Л–љ—М—П, –≥–∞–ї–ї—О—Ж–Є–љ–∞—Ж–Є–Є –Є –њ–Њ–ї–ї—О—Ж–Є–Є… –Т–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞—О—В –Є —Б—В–∞–љ–Њ–≤—П—В—Б—П –Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤–Њ –≤–∞–ґ–љ—Л –і–ї—П –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Э–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –≤–µ–і–µ—В —В–µ–Ї—Б—В, –∞ —Б–ї–Њ–≤–Њ, –µ–≥–Њ –Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–є –Њ–±—А–∞–Ј –≤–µ–і–µ—В –Є —В–µ–Ї—Б—В –Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —А–Є—В–Љ –Є –Є–љ—В–Њ–љ–∞—Ж–Є—П –Њ—Б—В–∞—О—В—Б—П, –±–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ, –њ—А–Њ–Ј–∞–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є. –Ґ–∞–Ї–∞—П –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П —В–µ–Ї—Б—В–∞ –Њ–±—К—П—Б–љ—П–µ—В—Б—П –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –≥–µ—А–Њ–µ–Љ, —З—М–Є–Љ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ –Є –≤–µ–і–µ—В—Б—П –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ. –Р –≥–ї–∞–≤–љ—Л–є –≥–µ—А–Њ–є —Г –љ–∞—Б –њ–Њ—Н—В, —В. –µ. —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –њ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—О —Б –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–љ—Л–Љ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ–Љ –Ї —Б–ї–Њ–≤—Г. –У–µ—А–Њ–є —Г–Љ–µ–µ—В —Г–і–Є–≤–ї—П—В—М—Б—П, —Г–Љ–µ–µ—В —Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –љ–∞ —Б–ї–Њ–≤–Њ –Є –Љ–Є—А, –±—Г–і—В–Њ –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ. –Э–µ –Ј—А—П –љ–∞ –њ–µ—А–≤—Л—Е –ґ–µ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж–∞—Е —А–Њ–Љ–∞–љ–∞ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –Њ–±—А–∞–Ј –Ґ–Њ—В–Њ—А–Њ — –Ј–∞–±–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ –і—Г—Е–∞ –Є–Ј –Љ—Г–ї—М—В—Д–Є–ї—М–Љ–∞ –•–∞—П–Њ –Ь–Є—П–і–Ј–∞–Ї–Є, –∞ –њ–Њ –≤–µ—А—Б–Є–Є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ –†–∞—Д–µ–µ–љ–Ї–Њ — –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–µ–≥–Њ, –њ–µ—А–≤–Є—З–љ–Њ–≥–Њ, –і–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П. –У–µ—А–Њ–є (–њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М, –∞–≤—В–Њ—А) –љ–µ –і–Њ–≤–µ—А—П–µ—В –Њ–±—Й–µ–њ—А–Є–љ—П—В—Л–Љ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П–Љ –Є –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–Њ–≤–µ—А—П–µ—В, –Є—Б–њ—Л—В—Л–≤–∞–µ—В —Б—В–∞—А—Л–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Є –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П:
«–Ь–∞–Љ–∞! — —Б–љ–Њ–≤–∞ –≤ –Њ—В—З–∞—П–љ–Є–Є –њ–Њ–Ј–≤–∞–ї –Њ–љ. — –У–і–µ? –У–і–µ —П, –Љ–∞–Љ–∞? –Ш —Б–∞–Љ —Б–µ–±–µ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї: –Ь–Р–Ь–Р, –ї–µ–≤—Л–є –њ—А–Є—В–Њ–Ї —А. –Т–Є—В–Є–Љ (–С—Г—А—П—В–Є—П –Є –Ш—А–Ї—Г—В—Б–Ї–∞—П –Њ–±–ї.). … –Ф–Њ—Б—В–∞–≤ –Ф–∞–ї—П, –Љ–Њ–ї–љ–Є–µ–љ–Њ—Б–љ–Њ –љ–∞—И–µ–ї: –Ь–Р–Ь–Р –ґ. –Љ–∞–Љ–µ–љ—М–Ї–∞, –Љ–∞–Љ–Њ–љ—М–Ї–∞, -–Љ–Њ—З–Ї–∞, –Љ–∞—В—Г—И–Ї–∞, —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞…».
–Ш–Ј —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б–ї–Њ–≤—Г —Б—Г—А—З–Є–љ—Л, –≤—Л—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Є–Ј –Р–Ї—Б–∞–Ї–Њ–≤–∞, —А–Њ–ґ–і–∞–µ—В—Б—П —Ж–µ–ї–∞—П –≥–ї–∞–≤–∞. –Р—Б—Б–Њ—Ж–Є–∞—Ж–Є–Є, —Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤—Л–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ—Б–Њ—З–µ—В–∞–љ–Є—П (—В–Њ—З–љ–µ–µ, –Њ–±—Л–≥—А—Л–≤–∞–љ–Є–µ —В–∞–Ї–Є—Е —Б–ї–Њ–≤–Њ—Б–Њ—З–µ—В–∞–љ–Є–є) –і–∞—О—В –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ—Л–µ –њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В—Л –≤ –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є:
«…–Ї–Њ–≥–і–∞ —Г –Љ–µ–љ—П –Ї–Њ–љ—З–∞–ї–Є—Б—М –і–µ–љ—М–≥–Є –Є–ї–Є –њ–∞—В—А–Њ–љ—Л. –Ъ–∞–Ї–Є–µ –њ–∞—В—А–Њ–љ—Л? –Я—А–Є —З–µ–Љ —В—Г—В –њ–∞—В—А–Њ–љ—Л?»
–Я–∞—В—А–Њ–љ—Л –љ–Є –њ—А–Є —З–µ–Љ. –Ю –љ–Є—Е —А–µ—З—М –љ–µ —И–ї–∞, –љ–Њ –Њ–љ–Є –њ—А–Є—И–ї–Є—Б—М –Ї —Б–ї–Њ–≤—Г –Є —Г–≤–ї–µ–Ї–ї–Є –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ј–∞ —Б–Њ–±–Њ–є. –Ш–і–µ—В —Г–≤–ї–µ–Ї–∞—В–µ–ї—М–љ–∞—П, –≤–Њ—Б—В–Њ—А–ґ–µ–љ–љ–∞—П —А–∞–±–Њ—В–∞-–Є–≥—А–∞ –њ–Њ —Б–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О, –Ї–Њ–Њ—А–і–Є–љ–∞—Ж–Є–Є –Ј–љ–∞–Ї–∞ (–Њ–Ј–љ–∞—З–∞—О—Й–µ–≥–Њ) –Є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞ (–Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ):
«… –≤–Є–і–µ–ї –≤ –Ї—Г—Б—В–∞—Е –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–≥–Њ —Д–∞–Ј–∞–љ–∞. –°–Љ–Њ—В—А–µ–ї –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ –Є –љ–µ –≤–µ—А–Є–ї —Б–≤–Њ–Є–Љ –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ. –Ю—В–Ї—Г–і–∞ –≤ –љ–∞—И–µ–Љ –њ–∞—А–Ї–µ —Д–∞–Ј–∞–љ? –Ф–∞–ґ–µ –Є—Б–Ї–∞–ї –≤ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В–µ–ї–µ. –Э–∞—И–µ–ї –Ї–∞—А—В–Є–љ–Ї—Г — –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, —Д–∞–Ј–∞–љ. «–Э–∞–і–Њ –ґ–µ, — –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є –і—Г–Љ–∞–ї —П –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤–Њ—Б—В–Њ—А–ґ–µ–љ–љ–Њ, — —Д–∞–Ј–∞–љ».
–Э–Њ –Є–≥—А–∞ –Є–і–µ—В –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–Є–µ, —А–∞—Б—И–∞—В—Л–≤–∞–љ–Є–µ —Б—В–∞—А—Л—Е –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–є, –љ–Њ –Є –љ–∞ —Б–Њ–Ј–Є–і–∞–љ–Є–µ –љ–Њ–≤—Л—Е, — —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Л—Е –Є –љ–µ—Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Л—Е. –Х—Б–ї–Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—В «–њ–Њ–і–Љ–µ–і–≤–µ–і–Є (Subursina), –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–µ –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л–µ —Б –і–ї–Є–љ–љ—Л–Љ —Е–≤–Њ—Б—В–Њ–Љ…», —В–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –Є «–њ–Њ–і–ї–Њ—Б–Є, –Ј–∞—Б–Њ–±–∞–Ї–Є, –њ–µ—А–µ–і–Ј–∞–є—Ж—Л, –њ–Њ–і–≥—Г—Б–Є, –≤–Љ–µ—Б—В–Њ–і—П—В–ї—Л». –Ъ–∞–Ї–Є–µ —А–∞—Б—В–µ–љ–Є—П –≤ –Ш–Ј—А–∞–Є–ї–µ — –Ј–∞–і–∞–µ—В—Б—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–Љ –ї—О–±–Њ–њ—Л—В–љ—Л–є –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М. –Ш —В—Г—В –ґ–µ –њ–Њ—З—В–Є –љ–∞ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж—Г –њ–µ—А–µ–і –љ–∞–Љ–Є –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ–∞—П –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–∞ —Н—В–Є–Љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–є —Д–ї–Њ—А—Л –С–ї–Є–ґ–љ–µ–≥–Њ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞.
«–Ґ–µ—А–њ–µ–љ—В–Є–љ–Њ–≤–Њ–µ –і–µ—А–µ–≤–Њ — –љ–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —П –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О, –і–µ—А–µ–≤–Њ —В–µ—А–њ–µ–љ–Є—П. –Я–Њ—В–Њ–Љ –Љ–∞—Б–ї–Є–љ–∞, —Н—В–∞ —А–∞—Б—В–µ—В, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ–і –љ–µ–є –Љ–Њ–ї–Є—В—М—Б—П…» –Є —В. –і.
–Ґ–∞–Ї–Њ–µ —Д–Є–ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —Б–Њ–Ј–Є–і–∞–љ–Є–µ –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Є–≤–љ–Њ, —З—В–Њ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–µ–і–µ—В —Б—О–ґ–µ—В, –і–µ–ї–∞—П –µ–≥–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л–Љ –Є –љ–µ–њ—А–µ–і—Б–Ї–∞–Ј—Г–µ–Љ—Л–Љ, –љ–Њ –Є —В–≤–Њ—А–Є—В –Ј–і–µ—Б—М –Є —Б–µ–є—З–∞—Б –љ–Њ–≤—Л—Е –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–µ–є. –Ш–Ј —Б–Ї–Њ—А–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Ї–Є –њ–Њ—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–Њ–≤—Л–є –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ –Ы–∞—А—П, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є—Е –≥–ї–∞–≤–∞—Е –±—Г–і–µ—В –Є–і—В–Є —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–∞—П —А–µ—З—М. –У–µ—А–Њ—О —Б—В–∞–ї–Њ –љ–µ—Г—О—В–љ–Њ –Є –Ј—П–±–Ї–Њ, –Є –≤–Њ—В —Г–ґ–µ –љ–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–є —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж–µ –і–µ–є—Б—В–≤—Г–µ—В –≥–µ—А–Њ–є –њ–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є –Ч—П–±–Ї–Њ. –Т–Њ–Њ–±—Й–µ, —А–Њ–Љ–∞–љ –њ–Њ–ї–Њ–љ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–є –Є–Ј –љ–µ–ґ–Є–≤–Њ–≥–Њ –≤ –ґ–Є–≤–Њ–µ: –Ї—Г–Ї–ї–∞ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –≤ –і–µ–≤–Њ—З–Ї—Г, –њ–ї—О—И–µ–≤–∞—П –Є–≥—А—Г—И–Ї–∞ — –≤ –ґ–Є–≤–Њ–≥–Њ —Б—Г—А–Ї–∞, –Њ–ґ–Є–≤–∞–µ—В –і–∞–ґ–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –Т–Њ–Є–љ—Г-–Ю—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є—В–µ–ї—О. –Ш –≤—Б–µ –Њ–љ–Є –ґ–Є–≤—Г—В, –і–≤–Є–ґ—Г—В—Б—П, –Њ–±–ї–∞–і–∞—О—В —Б–≤–Њ–µ–є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —А–µ—З—М—О –Є –Љ–µ—Б—В–Њ–Љ –≤ —А–Њ–Љ–∞–љ–µ.
–Т—В –Њ—А –Њ –µ. –°–і–µ–ї–∞—В—М —А–Њ–Љ–∞–љ –ґ–Є–≤—Л–Љ, –љ–∞–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ—Л–Љ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П, –∞–≤—В–Њ—А—Г –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–µ—В –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –ґ–∞–љ—А–Њ–≤. –Т —В–Ї–∞–љ—М –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤–њ–ї–µ—В–µ–љ—Л –±—Л—В–Њ–≤–Њ–є –∞–љ–µ–Ї–і–Њ—В, —Б–Ї–∞–Ј–Ї–∞, –Ї—Г–ї–Є–љ–∞—А–љ—Л–є —А–µ—Ж–µ–њ—В, —А–µ–Ї–ї–∞–Љ–љ—Л–є –њ—А–Њ—Б–њ–µ–Ї—В, –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і—М, —Б—В–∞—В—М—П –Є–Ј —В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞—А—П –Є–ї–Є —Н–љ—Ж–Є–Ї–ї–Њ–њ–µ–і–Є–Є, —А–∞–і–Є–Њ–њ–µ—А–µ–і–∞—З–∞, –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞, –ґ–Є—В–Є–µ —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ, –љ–∞—Г—З–љ–∞—П –і–µ—Д–Є–љ–Є—Ж–Є—П, —Б–≤–Њ–і–Ї–∞ –љ–Њ–≤–Њ—Б—В–µ–є –Є–Ј –Є–љ—В–µ—А–љ–µ—В–∞… — –≤—Б–µ–≥–Њ –љ–µ –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–Є—И—М. –Ш –≤–Њ—В –њ—А–Є –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–њ—А–Њ–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–Є (–њ–Њ—А–Њ–є –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞—Е –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞) –і–∞–ї–µ–Ї–Є—Е –і—А—Г–≥ –Њ—В –і—А—Г–≥–∞ –ґ–∞–љ—А–Њ–≤ –Є —Б—В–Є–ї–µ–є –Є —А–Њ–ґ–і–∞—О—В—Б—П –љ–Њ–≤—Л–µ —Б–Љ—Л—Б–ї—Л. –Ю—З–µ–љ—М –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–∞ –≤ —Н—В–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –≥–ї–∞–≤–∞ «–Ф–µ—Д–µ–Ї—В –Љ–∞—Б—Б», –≥–і–µ –њ—А–Њ–і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ, –љ–∞ –Љ–Њ–є –≤–Ј–≥–ї—П–і, –≤—Л—Б—И–Є–є –њ–Є–ї–Њ—В–∞–ґ —А–∞–±–Њ—В—Л —Б–Њ —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ — —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Д–Њ—А–Љ—Г–ї–∞ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П (—А–∞–Ј–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П) –≤ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –Њ –і—А—Г–ґ–±–µ –Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б—Г–і—М–±–µ. –Я—А–Є–≤–µ–і–µ–Љ –µ—Й–µ –њ—А–Є–Љ–µ—А—Л. –У–ї–∞–≤–∞ «–°–Њ–ї–і–∞—В-–Ю—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є—В–µ–ї—М». –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П, –њ–Њ—З—В–Є –∞–љ–µ–Ї–і–Њ—В, —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ —Б—В–Є–ї–µ–Љ, —В–Њ—З–љ–µ–µ, —И—В–∞–Љ–њ–∞–Љ–Є –Є–Ј —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Є –њ—Г–±–ї–Є—Ж–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є —Н–њ–Њ—Е–Є: «–Ч–∞–і–∞–≤–Є–≤ —Г —Б–µ–±—П –≤ –ї–Њ–≥–Њ–≤–µ —Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї—Г—О –≥–∞–і–Є–љ—Г, —Б–Њ–ї–і–∞—В –Ј–∞—В–µ–Љ –њ—А–Є—И–µ–ї –і–Њ–Љ–Њ–є». –У–ї–∞–≤–∞ «–Ю —Д–∞—Г–љ–µ –Є —Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –њ–Њ –≤–Њ–і–µ» –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞–љ–∞ –≤ –ґ–∞–љ—А–µ –ґ–Є—В–Є—П, –љ–Њ –Љ—Л —В–Њ –Є –і–µ–ї–Њ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ–Љ —В–∞–Ї–Є–µ –≤–Њ—В «–њ–µ—А–µ–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П» –ґ–∞–љ—А–Њ–≤: «–≠—Е, —В–µ—В–Ї–∞, — —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –±—Л –µ–є, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ, –ї—О–±–Њ–є –Є–Ј –љ–∞—Б –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ –Т–ї–∞—Б–Є—П, — –Љ–љ–µ –±—Л —В–≤–Њ–Є –Ј–∞–±–Њ—В—Л. –Ь–µ–љ—П —В—Г—В –љ–∞ —Б–Љ–µ—А—В—М –≤–µ–і—Г—В –Љ—Г—З–µ–љ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О, –∞ —В—Л –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—И—М, —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –њ–Њ—А–Њ—Б–µ–љ–Ї–Њ–Љ. –Э—Г —В–∞–Ї —Н—В–Њ –≤–Њ–≤—А–µ–Љ—П, —В–µ—В–Ї–∞, —В–∞–Ї –≤–Њ–≤—А–µ–Љ—П…».
–ѓ –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–µ —Е–Њ—З—Г —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ –≤ —А–Њ–Љ–∞–љ–µ — –њ—А–Є–µ–Љ—Л. –Х—Б–ї–Є –±—Л —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ —В–∞–Ї, —В–Њ –Љ—Л –Є–Љ–µ–ї–Є –±—Л –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–є –њ–Њ—Б—В–Љ–Њ–і–µ—А–љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —А–Њ–Љ–∞–љ, –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Є –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–є, –љ–Њ –љ–µ –±–Њ–ї–µ–µ. –Т «–Э–µ–≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–љ—Л—Е –≥–ї–∞–≥–Њ–ї–∞—Е» –њ—А–Є–µ–Љ—Л, —Б—В–Њ–ї–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П –ґ–∞–љ—А–Њ–≤, —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤, –њ–Њ—Н—В–Є–Ї –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ—Л –Є –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ—Л —Ж–µ–ї–Њ–Љ—Г —А–Њ–Љ–∞–љ–∞. –†–Њ–Љ–∞–љ –і–∞–ї–µ–Ї –Њ—В —Б–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤–Њ–є –∞–љ–∞—А—Е–Є–Є — –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ –≤—Б–µ —Б—Е–Њ–і–Є—В—Б—П, –Ј–∞–Ї–Њ–ї—М—Ж–Њ–≤–∞–љ–Њ, –љ–Є –Њ–і–Є–љ –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ –љ–µ –±—А–Њ—И–µ–љ –љ–∞ –њ–Њ–ї–і–Њ—А–Њ–≥–µ, –≤—Б–µ –ї–Є–љ–Є–Є –≤–∞–ґ–љ—Л –Є –∞–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ—Л –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞.
–Э–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–ї–Њ–≤ –Њ –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–∞—Е. –Ю—З–µ–љ—М —Б–Њ–±–ї–∞–Ј–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–µ–є —А–Њ–Љ–∞–љ–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–∞–Ї –≤–µ—А—Б–Є–Є, –≥—А–∞–љ–Є –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –≥–µ—А–Њ—П, –љ–µ –Є–Љ–µ—О—Й–Є–µ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П. –Ь—Н–є, –°–∞—Ж—Г–Ї–Є — —Н—В–Њ –≤–µ–і—М –і–∞–ґ–µ –љ–µ –Є–Љ–µ–љ–∞, — –Љ–∞—Б–Ї–Є. –°–Њ–±–ї–∞–Ј–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –љ–Њ –≤—Б–µ –ґ–µ —Н—В–Њ –љ–µ —В–∞–Ї. –Т —В–Њ–Љ-—В–Њ –Є –і–µ–ї–Њ —З—В–Њ, –Њ –Ї–Њ–Љ –±—Л –љ–Є —И–ї–∞ —А–µ—З—М, –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ, —Б—О–ґ–µ—В –≤—Б—П–Ї–Є–є —А–∞–Ј –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –њ–µ—А–µ–Ї–ї—О—З–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–∞. –Ф–ї—П —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—З–Є–Ї–∞ –≤–∞–ґ–љ–∞ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—Г–і—М–±–∞ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –≥–µ—А–Њ—П, –љ–Њ –Є –≤—Б–µ—Е –і—А—Г–≥–Є—Е –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–µ–є: –•–Њ—В–Є—А–Њ, —Б–ї–∞–±–Њ—Г–Љ–љ—Л–є –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї —Б–Њ –і–≤–Њ—А–∞; –ґ–Є–≤—Г—Й–∞—П –≤ –Ґ–µ–ї—М-–Р–≤–Є–≤–µ –°–∞—Ж—Г–Ї–Є–Ї–Њ; –і—А—Г–≥, —Г–µ—Е–∞–≤—И–Є–є –≤ –Я—Г—Б—В—Л–љ—О –Э–µ–≥–µ–≤… –†–∞–≤–љ–Њ- –њ—А–∞–≤–љ—Л–Љ–Є –≥–µ—А–Њ—П–Љ–Є —А–Њ–Љ–∞–љ–∞ —Б—В–∞–љ–Њ–≤—П—В—Б—П —Г–ґ–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –Љ–љ–Њ–є —Б–≤—П—В–Њ–є –Т–ї–∞—Б–Є–є, –ґ–Є–≤—И–Є–є –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –≤–µ–Ї–µ –љ–∞—И–µ–є —Н—А—Л, –Є —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Љ–Є—Б—Б–Є–Њ–љ–µ—А –љ–∞—З–∞–ї–∞ 20 –≤–µ–Ї–∞ –Ш–Њ–∞–љ–љ –Ъ–∞—Б–∞—В–Ї–Є–љ. –Ш –≤—Б–µ –ґ–µ –≥–ї–∞–≤–љ–∞—П —Д–Є–≥—Г—А–∞ –≤ —А–Њ–Љ–∞–љ–µ — –ї–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –≥–µ—А–Њ–є. –У–µ—А–Њ–є — –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–Є–є, –њ–Њ—А–Њ–є —З–µ—А–µ—Б—З—Г—А —Б–µ–љ—В–Є–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л–є (–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Є –Њ—В –і—Г—И–Є –њ–ї–∞—З–µ—В), –њ–Њ—А–Њ–є –Є–љ—Д–∞–љ—В–Є–ї—М–љ—Л–є, –њ–Њ—А–Њ–є –љ–µ –њ–Њ –≥–Њ–і–∞–Љ –Љ—Г–і—А—Л–є, –њ–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Є—А–Њ–љ–Є—З–љ—Л–є, –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї —Б–µ–±–µ –Ї —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г. –У–µ—А–Њ—О –≤–µ—А–Є—И—М, –і–∞–ґ–µ —В–Њ–≥–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤ —В–Њ, –Њ —З–µ–Љ –Њ–љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В, –њ–Њ–≤–µ—А–Є—В—М –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ. –Ш –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ, –≥–µ—А–Њ—О —Б–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤—Г–µ—И—М, —В–Њ—З–љ–µ–µ, —Б–Њ-—З—Г–≤—Б—В–≤—Г–µ—И—М –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –≥–µ—А–Њ–µ–Љ. –Э–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –≥–µ—А–Њ–є —Б–Њ–≤–њ–∞–і–∞–µ—В —Б —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—З–Є–Ї–Њ–Љ –Є, —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ, —Б –∞–≤—В–Њ—А–Њ–Љ, –љ–Њ –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ –≤ —А–Њ–Љ–∞–љ–µ –Ј–≤—Г—З–Є—В –Є–љ—В–Њ–љ–∞—Ж–Є—П –≥–µ—А–Њ—П. –Т–Њ–Њ–±—Й–µ, –Є–љ—В–Њ–љ–∞—Ж–Є—П — —Н—В–Њ, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –≤–Є–Ј–Є—В–љ–∞—П –Ї–∞—А—В–Њ—З–Ї–∞ —А–Њ–Љ–∞–љ–∞. –С–µ—Б—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ –њ—А–µ—А–µ–Ї–∞–љ–Є—П —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—З–Є–Ї–∞ –Є –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–µ–є, –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –Ї —З–Є—В–∞—В–µ–ї—О, —А–Є—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л, —Г—В–Њ—З–љ–µ–љ–Є—П, –њ–Њ–≤—В–Њ—А—Л –Є —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Є, —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Є! — –≤—Б–µ —Н—В–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–µ—В —В—Г –љ–µ–њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є–Љ—Г—О –∞—Г—А—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О —Б —Е–Њ–і—Г –Є–ї–Є –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—И—М –Є–ї–Є –Њ—В–≤–µ—А–≥–∞–µ—И—М (–і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞—О –Є —В–∞–Ї–Њ–µ):
«–Э—Г, –≤–Њ—В —З—В–Њ —В—Л –і—Г–Љ–∞–µ—И—М, –°–∞—Ж—Г–Ї–Є–Ї–Њ, —З—В–Њ —В—Л –і—Г–Љ–∞–µ—И—М —Б–µ–є—З–∞—Б…».
«–Э–µ –±—Л–ї–Њ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ. –Ъ–∞–Ї –љ–µ –±—Л–ї–Њ? –С—Л–ї–Њ. –Э–µ –±—Л–ї–Њ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ. –Э–Є—З–µ–≥–Њ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Р –Ї–∞–Ї –±—Л–ї–Њ?–Р –±—Л–ї–Њ –≤–Њ—В –Ї–∞–Ї».
«–І—В–Њ –Љ–љ–µ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –љ—А–∞–≤–Є—В—Б—П –≤ —В–µ—Е –≥–Њ–і–∞—Е? –≠—В–Њ —В—Л —Г –Љ–µ–љ—П —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–µ—И—М? –Э—Г, –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ, —Г —В–µ–±—П. –Э—Г, —П –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –Ј–љ–∞—О, —З—В–Њ —В–µ–±—П –љ—А–∞–≤–Є–ї–Њ—Б—М».
–У—А—Г—Б—В–љ–∞—П –Є—А–Њ–љ–Є—П, –ї–Є—А–Є–Ј–Љ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –≥–ї–∞–≤ –Ј–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В—Б—П –љ–∞–і–Њ–ї–≥–Њ. –Т —А–Њ–Љ–∞–љ–µ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –љ–µ—В –Є–љ—В–Њ–љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ –љ–µ–є—В—А–∞–ї—М–љ—Л—Е –Љ–µ—Б—В. –Ю —З–µ–Љ –±—Л –љ–Є —И–ї–∞ —А–µ—З—М: –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—В–Є–Љ–љ–Њ–є –±–ї–Є–Ј–Њ—Б—В–Є –≥–µ—А–Њ—П, –≥–Њ—А–µ—З–Є —А–∞–Ј–ї—Г–Ї–Є —Б –ї—О–±–Є–Љ–Њ–є, –Њ —Б–Њ–±–∞–Ї–µ –њ–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є –У–∞–є, —Г –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Љ–∞–Љ–∞ –±—Л–ї–∞ –ї–∞–є–Ї–∞, –∞ –њ–∞–њ–∞ — –±–µ–ї—Л–є –Љ–µ–і–≤–µ–і—М, –Њ –Ј–∞–Ї–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –љ–∞—Б–Љ–µ—А—В—М —Б–Њ–±–Њ–ї–µ –≤ –Ј–Њ–Њ–њ–∞—А–Ї–µ –Ю—А—В–Њ –Ф–∞–є–і—Г, — –Њ–±–Њ –≤—Б–µ–Љ —Н—В–Њ–Љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ –≥–Њ—А—П—З–Њ. –Т—Б–µ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –≤–∞–ґ–љ—Л–Љ –і–ї—П –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є, —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —Б—Г–і—М–±—Л –≥–µ—А–Њ—П. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —В–∞–Ї–Њ–Љ—Г –њ—А–Є—Б—В—А–∞—Б—В–љ–Њ–Љ—Г, —Г—З–∞—Б—В–љ–Њ–Љ—Г –≤–Ј–≥–ї—П–і –љ–∞ –Љ–Є—А, –і–µ–ї–∞—О—Й–µ–Љ—Г —Б–Њ–±—Л—В–Є—П –≤ –Љ–Є—А–µ –Є –ї—О–і–µ–є –≤–Ј–∞–Є–Љ–љ–Њ –њ—А–Є—З–∞—Б—В–љ—Л–Љ–Є –Є –∞–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є, —А–Њ–Љ–∞–љ –≤—Л—И–µ–ї –њ–Њ-–љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ—Г —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ. –Т —Н—В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –Љ–љ–µ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –µ–≥–Њ –љ–Њ–≤–Є–Ј–љ–∞. –Я—А–Є —В–∞–Ї–Њ–Љ –≤–Ј–≥–ї—П–і–µ –Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤–Њ —Ж–µ–љ–љ—Л –Я—Г—И–Ї–Є–љ, –Ш–Њ–∞–љ–љ –Ы–µ—Б—В–≤–Є—З–љ–Є–Ї –Є –І–ґ—Г –Ф—Г–љ—М–ґ—Г, —Д–ї–Њ—А–∞ –Є —Д–∞—Г–љ–∞ –і—А–µ–≤–љ–µ–є –Ъ–∞–њ–њ–∞–і–Њ–Ї–Є–Є, —Б—Г—Е–Њ–є –Є –ґ–∞—А–Ї–Є–є –≤–µ—В–µ—А —Е–∞–Љ—Б–Є–љ… –Ъ—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–µ –Є –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ (–±–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ, –Ї–ї–Є–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ) —П–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б—В–∞–љ–Њ–≤—П—В—Б—П —Б–Њ–±—Л—В–Є—П–Љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–љ–∞, –Њ–±–Њ–≥–∞—Й–∞—П –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞ –љ–Њ–≤—Л–Љ–Є –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Є —Б–Љ—Л—Б–ї–∞–Љ–Є.
–°–ї–µ–і—Г–µ—В —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Є –Њ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–є, –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–є —А–Њ–Љ–∞–љ–∞. –Ю–љ–∞ –≤–∞–ґ–љ–∞. –Э–Њ –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–µ –њ–Њ–і–∞–≤–ї—П–µ—В, –љ–µ –њ–Њ–≥–ї–Њ—Й–∞–µ—В —А–Њ–Љ–∞–љ. –Х—Б–ї–Є –Є –Ј–≤—Г—З–∞—В –љ–Њ—В–Ї–Є –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–Є, —В–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤ —Б—В–Є–ї–µ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–Є –љ—М—О-—Н–є–і–ґ. —В. –µ. –љ–µ–љ–∞–≤—П–Ј—З–Є–≤–Њ, –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –±—Н–Ї–≥—А–∞—Г–љ–і–∞. –Ш –Ј–і–µ—Б—М –≤–∞–ґ–љ–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—В—М, —З—В–Њ –µ—Б–ї–Є –±—Л —Н—В–Њ—В background (–љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Д–Њ–љ, –љ–Њ –Є –њ—А–µ–і–њ–Њ—Б—Л–ї–Ї–∞, –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ, –Є—Б—В–Њ–Ї–Є) –±—Л–ї –≤ —А–Њ–Љ–∞–љ–µ –і—А—Г–≥–Є–Љ, —Б–Ї–∞–ґ–µ–Љ, –Ї–∞—В–Њ–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Є–ї–Є –±—Г–і–і–Є–є—Б–Ї–Є–Љ, —В–Њ –Є —Б–∞–Љ —А–Њ–Љ–∞–љ –≤—Л—И–µ–ї –±—Л —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –і—А—Г–≥–Є–Љ. –†–∞–Ј–і–µ–ї—П—В—М –Є–ї–Є –љ–µ —А–∞–Ј–і–µ–ї—П—В—М —В–∞–Ї—Г—О —В–Њ—З–Ї—Г –Ј—А–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Љ–Є—А — —Н—В–Њ –ї–Є—З–љ—Л–є –≤—Л–±–Њ—А —З–Є—В–∞—В–µ–ї—П, –љ–Њ –љ—Г–ґ–љ–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М, —З—В–Њ —В–µ–Љ–∞ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—П –љ–µ –≤—Л—Б–Њ–≤—Л–≤–∞–µ—В—Б—П (–≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –Ґ—Л–љ—П–љ–Њ–≤–∞) –Є–Ј —А–Њ–Љ–∞–љ–∞, –Њ–љ–∞ –µ–Љ—Г –Њ—А–≥–∞–љ–Є—З–љ–∞, –Њ–љ–∞ — —Б–∞–Љ —А–Њ–Љ–∞–љ.
–Т–µ—А–љ–µ–Љ—Б—П –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –Ї –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Г, –Ј–∞–і–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ: –Њ —З–µ–Љ –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤—Г—О—В «–Э–µ–≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–љ—Л–µ –≥–ї–∞–≥–Њ–ї—Л». –Ю –і–µ—В—Б—В–≤–µ –Є –≤–Ј—А–Њ—Б–ї–µ–љ–Є–Є –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –≥–µ—А–Њ—П? –Э–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ. –Ю –ї—О–±–≤–Є, —А–∞—Б—Б—В–∞–≤–∞–љ–Є–Є –Є –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ—Л—Е —Г—В—А–∞—В–∞—Е? –Э–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ. –Ю —В–Њ–Љ, —З—В–Њ «–≤—Б–µ, —З—В–Њ –±—Л–ї–Њ —В–Њ–≥–і–∞, —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –≥–і–µ-—В–Њ»? –Ф–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ—В—Г –≤—Л–і–µ–ї–Є—В—М —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ, —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ —Б–≤–µ—Б—В–Є —А–Њ–Љ–∞–љ –Ї —З–µ–Љ—Г-—В–Њ –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г. –ѓ –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞—О –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –љ–∞ «–Э–µ–≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–љ—Л–µ –≥–ї–∞–≥–Њ–ї—Л» –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ —А–∞–Ї—Г—А—Б–µ. –Ю–±—А–∞—В–Є–Љ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ «–њ–Є—В–Њ–Љ—Ж–µ–≤» –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –≥–µ—А–Њ—П: –Ї—Г–Ї–ї—Г –Є –њ–ї—О—И–µ–≤–Њ–≥–Њ –Љ–Є—И–Ї—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≥–µ—А–Њ–є –Њ–ґ–Є–≤–Є–ї —Б–≤–Њ–µ–є –Ј–∞–±–Њ—В–Њ–є –Є –ї—О–±–Њ–≤—М—О. –≠—В–Є –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–Є–Њ–±—А–∞–Ј—Л –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —В—А–∞–Ї—В–Њ–≤–∞—В—М –Є –Ї–∞–Ї —Д–∞–љ—В–∞–Ј–Є–Є, –њ–ї–Њ–і—Л –≤–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –≥–µ—А–Њ—П (—Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–Њ—Й–∞–љ–Є–µ —Б –і–µ—В—Б—В–≤–Њ–Љ), –∞ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Ї–∞–Ї –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –Њ–ґ–Є–≤—И–Є—Е –Є–≥—А—Г—И–µ–Ї. –Ы–Њ–≥–Є–Ї–∞ –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В –Є –њ–µ—А–≤–Њ–µ, –Є –≤—В–Њ—А–Њ–µ. –С–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ, —Н—В–∞ –ї–Њ–≥–Є–Ї–∞ –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В, –і–∞–ґ–µ –њ–Њ–і—А–∞–Ј—Г–Љ–µ–≤–∞–µ—В –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –і–≤—Г—Е —В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞–љ–Є–є. –У—А–∞–љ–Є—Ж–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г –ґ–Є–≤—Л–Љ –Є –љ–µ–ґ–Є–≤—Л–Љ, –≤–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–∞–µ–Љ—Л–Љ –Є —А–µ–∞–ї—М–љ—Л–Љ –њ—А–Њ–Ј—А–∞—З–љ–∞, –Є–Ј–Љ–µ–љ—З–Є–≤–∞. –Ф–ї—П –≥–µ—А–Њ—П (–Є –і–ї—П –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П) –Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤–Њ –≤–∞–ґ–љ–Њ –Є —В–Њ, —З—В–Њ —Б –љ–Є–Љ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В, –Є —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ —Б–µ–±–µ –≤—Л–і—Г–Љ—Л–≤–∞–µ—В, —Б–Њ—З–Є–љ—П–µ—В (–Њ–љ –ґ–µ — –њ–Њ—Н—В). –Ш –њ–Њ–і—З–∞—Б –≤–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–∞–µ–Љ–Њ–µ –±–Њ–ї–µ–µ –Њ—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ –Є —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ, —З–µ–Љ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є–Љ–µ–≤—И–µ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ —Б–Њ–±—Л—В–Є–µ –Є/–Є–ї–Є —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ –Њ–± —Н—В–Њ–Љ —Б–Њ–±—Л—В–Є–Є («–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤ –і–∞–ґ–µ –њ–Њ–љ—П—В–љ—Л—Е, –љ–Њ —З—В–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –Ј–љ–∞—З–∞—В, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤—Б–µ –Њ–љ–Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ « — —Н—В–Њ –Њ –љ–Њ–≤–Њ—Б—В—П—Е). –Ъ–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –±—Л — –≤—Б–µ –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ј–љ–∞—З–љ–Њ, –љ–µ—Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ, –Є–ї–ї—О–Ј–Њ—А–љ–Њ. –Т–Њ—В –њ–Њ–і–Њ–±—А–∞–ї –≥–µ—А–Њ–є –љ–Є –Ї–Њ–Љ—Г –љ–µ –љ—Г–ґ–љ—Л–µ –Є–≥—А—Г—И–Ї–Є, –Є –Њ–љ–Є –Њ–ґ–Є–ї–Є. –°—В–∞–ї–Є –µ–≥–Њ —Б–µ–Љ—М–µ–є. –Э–Њ –≤–µ–і—М –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –ґ–µ –µ–Љ—Г —Б –љ–Є–Љ–Є —А–∞—Б—Б—В–∞—В—М—Б—П, –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ — –≤—Л–љ–µ—Б—В–Є –Є–Ј –і–Њ–Љ—Г. –Ч–љ–∞—З–Є—В, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –Є –≤ –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є — –ґ–Є–≤–Њ–≥–Њ –≤ –љ–µ–ґ–Є–≤–Њ–µ? –Т —В–Њ–Љ —В–Њ –Є –і–µ–ї–Њ, —З—В–Њ –љ–µ—В. –У–µ—А–Њ–є —А–∞—Б—Б—В–∞–µ—В—Б—П —Б –Ф–µ–≤–Њ—З–Ї–Њ–є –Є –°—Г—А–Ї–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї —А–∞—Б—Б—В–∞–ї—Б—П –Њ–љ —Б–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ–Є —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –±–ї–Є–Ј–Ї–Є–Љ–Є –Є –ї—О–±–Є–Љ—Л–Љ–Є — –Ї—В–Њ —Г–µ—Е–∞–ї –≤ –і—А—Г–≥–Є–µ —Б—В—А–∞–љ—Л, –Ї—В–Њ —Г–Љ–µ—А (–Ї–∞–Ї –Є –Љ—Л –≤—Б–µ –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ—Л —А–∞—Б—Б—В–∞–≤–∞—В—М—Б—П, –Њ—В–њ—Г—Б–Ї–∞—В—М –і–Њ—А–Њ–≥–Є—Е –љ–∞–Љ –ї—О–і–µ–є), — —А–∞—Б—Б—В–∞–µ—В—Б—П, –љ–Њ –Ф–µ–≤–Њ—З–Ї–∞ –Є –°—Г—А–Њ–Ї –Њ—Б—В–∞—О—В—Б—П –Ф–µ–≤–Њ—З–Ї–Њ–є –Є –°—Г—А–Ї–Њ–Љ.
–Т—Л—И–µ —П –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Њ–± —Г—З–∞—Б—В–љ–Њ–Љ –≤–Ј–≥–ї—П–і–µ, –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Ї –Љ–Є—А—Г, — –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –њ—А–Њ–љ–Є–Ј–∞–љ–Њ –≤—Б–µ –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Њ—В –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –і–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞ –≤ —А–Њ–Љ–∞–љ–µ. –Э–Њ —З—В–Њ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Є–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П? –Р —В–Њ –Є —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —З—В–Њ –Ф–µ–≤–Њ—З–Ї–∞ —Г–ґ–µ –љ–µ –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є—В—Б—П —Б–љ–Њ–≤–∞ –≤ –Ї—Г–Ї–ї—Г, –∞ –≥–Њ–≤–Њ—А—П—Й–Є–є –°—Г—А–Њ–Ї — –≤ –њ–ї—О—И–µ–≤–Њ–≥–Њ –Љ–Є—И–Ї—Г. –Ш –≤—Б–µ —В–µ, –Ї—В–Њ –±—Л–ї–Є –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ —Б –љ–∞–Љ–Є, –љ–∞—И–Є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Є –Є —В–µ, –Ї—В–Њ –ґ–Є–ї –≤ –і—А—Г–≥–Є—Е —Н–њ–Њ—Е–∞—Е –Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞—Е, –љ–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ –љ–∞–Љ –±–ї–Є–Ј–Њ–Ї, — –≤—Б–µ –Њ–љ–Є –Њ—Б—В–∞–љ—Г—В—Б—П —Б –љ–∞–Љ–Є. –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г –Ї–∞–Ї –ґ–Є–Ј–љ—М — —Н—В–Њ —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–∞—П —А–∞–±–Њ—В–∞.
«–Ъ–∞–ґ–і—Л–є –і–µ–љ—М —А—П–і–Њ–Љ —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є –≤—Б–µ —В–µ, –Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–љ—О. –Ъ–∞–ґ–і—Л–є –і–µ–љ—М –Љ—Л –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–Љ –≤–Љ–µ—Б—В–µ. –°–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–∞—П —А–∞–±–Њ—В–∞ –ґ–Є—В—М. –Ц–µ–ї–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–Љ–Њ—З—М –±–ї–Є–Ј–Ї–Є–Љ –Є –і–∞–ї–µ–Ї–Є–Љ. –°–≤–Њ–Є–Љ –Є —З—Г–ґ–Є–Љ. –Ц–Є–≤—Л–Љ –Є –Љ–µ—А—В–≤—Л–Љ. –°–ї–Њ–≤–Њ–Љ –Є –њ–∞–Љ—П—В—М—О. –ѓ –њ–Њ–Љ–љ—О –Њ–±–Њ –≤—Б–µ—Е –≤–∞—Б».
–С–Њ—О—Б—М, —Г —З–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–є, –Ї—В–Њ –µ—Й–µ –љ–µ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ —Б —А–Њ–Љ–∞–љ–Њ–Љ, –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б–Њ–Ј–і–∞—В—М—Б—П –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ «–Э–µ–≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–љ—Л–µ –≥–ї–∞–≥–Њ–ї—Л» — —Н—В–Њ –≥—А—Г—Б—В–љ–∞—П —В—П–ґ–µ–ї–∞—П –Ї–љ–Є–≥–∞ –Є–ї–Є, —В–Њ–≥–Њ —Е—Г–ґ–µ, — –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—В—Г–∞–ї—М–љ–∞—П —А–Њ–Љ–∞–љ, –≥–і–µ –Є–і–µ–Є –Є –њ—А–Є–µ–Љ—Л –Њ–±–љ–∞–ґ–µ–љ—Л –і–Њ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞. –≠—В–Њ –љ–µ –≤–µ—А–љ–Њ. –Я–µ—А–≤–Њ–µ –Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–µ, —З—В–Њ –Љ—Л –≤–Є–і–Є–Љ, —Н—В–Њ –љ–µ —Г—В—А–∞—В—Л –Є –њ—А–Њ—Й–∞–љ–Є—П, –∞ –њ–Њ–ї–љ–Њ—В—Г –Є —А–∞–і–Њ—Б—В—М –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Т «—Д–Њ—А–Љ—Г–ї–µ» –ґ–Є—В—М, –њ–Њ–Ї–∞ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –Є —Г–Љ–µ—А–µ—В—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –ґ–Є—В—М —Б—В–∞–љ–µ—В —Г–ґ–µ –љ–µ–ї—М–Ј—П, «—Д–Њ—А–Љ—Г–ї–µ», –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б—З–Є—В–∞—В—М —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ credo –≥–µ—А–Њ—П (–Є, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –∞–≤—В–Њ—А–∞), —Б–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤–Њ–µ —Г–і–∞—А–µ–љ–Є–µ —Б—В–∞–≤–Є—В—Б—П –љ–∞ —Б–ї–Њ–≤–µ –ґ–Є—В—М. –Р–≤—В–Њ—А —Е–Њ—В—М –Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ —В—А—Г–і–љ–Њ—Б—В–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –љ–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞–µ—В —Н—В—Г —Б–∞–Љ—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М —Б —В–∞–Ї–Њ–є –ї—О–±–Њ–≤—М—О, –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ–Љ –Є –≤–Ї—Г—Б–Њ–Љ, —З—В–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Е–Њ—З–µ—В—Б—П –ґ–Є—В—М.
«…–љ–∞—А–µ–ґ—М—В–µ —Б–≤–µ–ґ–µ–є –Ј–µ–ї–µ–љ–Є, –њ–Њ–Љ–Њ–є—В–µ, –≤—Л–ї–Њ–ґ–Є—В–µ –љ–∞ —З–Є—Б—В–Њ–µ, —Е–Њ—В—П –Є –љ–µ –±–µ–Ј –Ї—А—Г–≥–ї—Л—Е –ґ–µ–ї—В—Л—Е –≤—Л—Й–µ—А–±–ї–Є–љ –±–ї—О–і–Њ, —Г–ґ–µ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ—Г—О –Ї—Г—А–Є—Ж—Г, –і–Њ—Б—В–∞–љ—М—В–µ –Є–Ј —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і–≤–∞–ї–∞ –±—Г—В—Л–ї—М –і–Њ–Љ–∞—И–љ–µ–≥–Њ –і–≤—Г—Е–ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ –≤–Є–љ–∞ –Є–Ј —З–µ—А–љ–Њ–њ–ї–Њ–і–љ–Њ–є —А—П–±–Є–љ—Л –Є –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–≥–Њ –≤–Є–љ–Њ–≥—А–∞–і–∞ –Є –Њ–±–Њ—В—А–Є—В–µ –њ–Њ–ї–Њ–є —А—Г–±–∞—И–Ї–Є –њ—Л–ї—М —Б–Њ —Б—В–∞–Ї–∞–љ–Њ–≤. –Р –≤–Њ—В –њ–µ—А–µ–ї–Є–≤–∞—В—М –љ–Є–Ї—Г–і–∞ –љ–µ –љ–∞–і–Њ, –Њ—Б—В–∞–≤—М—В–µ –≤ –њ–Њ–Ї–Њ–µ –Ї—Г–≤—И–Є–љ. –Ґ–∞–Ї –Ї–∞–Ї-—В–Њ –ї—Г—З—И–µ».
–Т –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ —Б–Ї–∞–ґ—Г, —З—В–Њ «–Э–µ–≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–љ—Л–µ –≥–ї–∞–≥–Њ–ї—Л» — –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–Є—З–љ–∞—П —Г–і–∞—З–∞ –∞–≤—В–Њ—А–∞, –љ–Њ –Є —И–∞–≥ –≤–њ–µ—А–µ–і –і–Њ–љ–µ—Ж–Ї–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ. –†–Њ–Љ–∞–љ –≤–Њ—И–µ–ї –≤ –ї–Њ–љ–≥-–ї–Є—Б—В (10 –Є–Љ–µ–љ) «–†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Я—А–µ–Љ–Є–Є», –њ—А–µ–Љ–Є–Є –Ј–∞ –ї—Г—З—И–Є–µ –њ—А–Њ–Ј–∞–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Є –њ–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–µ –љ–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ –Ј–∞ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞–Љ–Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Ф—Г–Љ–∞—О, —А–Њ–Љ–∞–љ –і–Њ–±—А–∞–ї—Б—П –±—Л –Є –і–Њ —Д–Є–љ–∞–ї–∞ –Є —Б –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ—Б—В—М—О –і–∞–ґ–µ —Б—В–∞–ї –±—Л –њ–Њ–±–µ–і–Є—В–µ–ї–µ–Љ, –µ—Б–ї–Є –±—Л —Г—З—А–µ–і–Є—В–µ–ї–Є –љ–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї–Є —Д–Њ—А–Љ–∞—В –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А—Б–∞. –Э–µ –≤–і–∞–≤–∞—П—Б—М –≤ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є, –њ–Њ—П—Б–љ—О, —З—В–Њ –≤ –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А—Б–µ 2008 —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є —Г–ґ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–µ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–Є –Є –њ–Њ—Н—В—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–Њ–Є–≥—А–∞—В—М –љ–∞—З–Є–љ–∞—О—Й–Є–Љ –Є–ї–Є –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–Љ –ї–Є—В–µ—А–∞—В–Њ—А–∞–Љ –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є. –Э–µ –Ј–љ–∞—О, –Ї–∞–Ї–Њ–≤—Л –±—Л–ї–Є –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–µ –Љ–Њ—В–Є–≤—Л –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –њ—А–∞–≤–Є–ї, –љ–Њ —В–Њ, —З—В–Њ —Ж–µ–ї–Є –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –њ—А–µ–Љ–Є–Є (–њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–∞ –Љ–∞–ї–Њ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Њ—П–Ј—Л—З–љ—Л—Е –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤ –Ј–∞ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞–Љ–Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є) –±—Л–ї–Є –љ–∞–њ—А–Њ—З—М –Ј–∞–≥—Г–±–ї–µ–љ—Л — —Н—В–Њ —Д–∞–Ї—В. –Ъ —Г—З–∞—Б—В–Є—О –≤ –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А—Б–µ 2008 –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ –±–Њ–ї–µ–µ 470 –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Њ—В —Б–Њ–Є—Б–Ї–∞—В–µ–ї–µ–є –Є–Ј 32 —Б—В—А–∞–љ, –Є –њ–Њ–њ–∞–і–∞–љ–Є–µ –≤ –і–µ—Б—П—В–Ї—Г –≤ –љ–Њ–Љ–Є–љ–∞—Ж–Є–Є «–Ї—А—Г–њ–љ–∞—П –њ—А–Њ–Ј–∞» — —Б–∞–Љ–Њ –њ–Њ —Б–µ–±–µ —Г–ґ–µ –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–µ. –С—Г–і–µ–Љ –љ–∞–і–µ—П—В—М—Б—П, —З—В–Њ —А–Њ–Љ–∞–љ –љ–µ –Њ—Б—В–∞–љ–µ—В—Б—П –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—З–µ–љ–љ—Л–Љ –≤ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–∞—Е — –Ъ–Є–µ–≤–µ –Є –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ.
–Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –Я–Р–°–Ґ–Х–†–Э–Р–Ъ –Ъ–Ш–Х–Т
–Ъ –†–∞—Д–µ–µ–љ–Ї–Њ —Г –Љ–µ–љ—П –і–∞–≤–љ–Є–µ —Б—З–µ—В—Л. –Э–∞—З–Є–љ–∞—О—Й–Є–є –≥—А–∞—Д–Њ–Љ–∞–љ, –њ–Њ–Љ–љ—О, –ї–µ—В –њ—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –љ–∞–Ј–∞–і —П –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –Ї —Г–ґ–µ —В–Њ–≥–і–∞ –Љ–∞—Б—В–Є—В–Њ–Љ—Г –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Г —Б –њ—А–Њ—Б—М–±–Њ–є –љ–∞–њ–Є—Б–∞—В—М –њ—А–µ–і–Є—Б–ї–Њ–≤–Є–µ –Ї –Љ–Њ–µ–є –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є, –љ–∞–і–µ—О—Б—М, –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є –Ї–љ–Є–≥–µ. –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–і—Г—И–љ–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П. –Ъ–Њ—В–Њ—А—Л–є –≥–Њ–і —П —Б –љ–∞—Б–ї–∞–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–µ—А–µ—З–Є—В—Л–≤–∞—О —Б–≤–Њ—О –њ–µ—А–≤—Г—О –Є, –љ–∞–і–µ—О—Б—М, –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—О—О –Ї–љ–Є–≥—Г, –≥–і–µ-—В–Њ –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –њ—А–µ–і–Є—Б–ї–Њ–≤–Є—П. –°–∞–Љ—Г –ґ–µ –Ї–љ–Є–≥—Г, –Ї–∞–Ї –≤—Л –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В–µ, —З–Є—В–∞—В—М –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ. –Т–µ–љ–Є–∞–Љ–Є–љ –Є–Ј–і–∞—В–µ–ї—М. –Т–µ–љ–Є–∞–Љ–Є–љ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є—В. –Ґ–∞–Ї –Ј–∞ —З—В–Њ –Љ–љ–µ –ї—О–±–Є—В—М –†–∞—Д–µ–µ–љ–Ї–Њ?!
«–Э–µ–≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–љ—Л–µ –≥–ї–∞–≥–Њ–ї—Л». –Т —Н—В–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–µ –Ј–∞–≥–∞–і–Њ—З–љ–Њ –≤—Б—С. –Т–Ј—П—В—М –љ–Њ–≤–µ–ї–ї—Г «–Ы–∞—А—П». –° –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Ы–∞—А—П — —Н—В–Њ –Ш–ї–ї–∞—А–Є–Њ–љ, —Б –і—А—Г–≥–Њ–є –Ы–∞—А—П — —Н—В–Њ –ї–∞—А—З–Є–Ї. –Ь–Њ–ї, –∞ –ї–∞—А—З–Є–Ї –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П. –Э–µ —Б–Ї–∞–ґ–Є—В–µ! –Ы–∞—А—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–∞ —Б—В—А. 121 –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –≤ –Ј–Њ–Њ–њ–∞—А–Ї, –Є —В–∞–Љ –ґ–µ, –љ–∞ —Б—В—А. 121 –є–Њ–≥–Њ –Ј–∞–≥—А—Л–Ј–ї—Л –і—Л–Ї–Є –Ј–≤—Н—А–Є, —Г–ґ–µ –љ–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–є —Б—В—А. 122 –њ–Њ—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б–љ–Њ–≤–∞, –Њ–љ –ґ–Є–≤–Њ–є –Є –љ–µ–≤—А–µ–і–Є–Љ—Л–є: «–Р –љ–∞–Љ —Б –Ы–∞—А–µ–є —З—В–Њ. –У–ї–∞–≤–љ–Њ–µ, –Є—Б–Ї—Г–њ–∞—В—М—Б—П –Є –≤–µ—А–љ—Г—В—М—Б—П –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ –Ї —Д—Г—В–±–Њ–ї—Г». –Ґ–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ –ґ–Є–≤, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В —Е–Њ—В—П –±—Л —В–Њ, —З—В–Њ –і–Њ –µ–≥–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є, —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –њ–µ–і–∞–љ—В–Є—З–љ—Л–є –∞–≤—В–Њ—А, — –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М –ї–µ—В –Є –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М —З–µ—В—Л—А–µ –і–љ—П. –Ф–∞ –Є —В–Њ —Г–Љ—А–µ—В –Њ–љ –љ–µ —Б—А–∞–Ј—Г, –∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —З–µ—В—Л—А–µ —З–∞—Б–∞ –њ–Њ–њ–Њ–ї—Г–і–љ–Є…
–Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ–Љ—Г –±–µ–і–љ–Њ–Љ—Г –Ј–∞–≥—А—Л–Ј–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Ы–∞—А–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М —В–∞–Ї –њ—А—Л—В–Ї–Њ –Њ—В—Л–≥—А–∞—В—М –љ–∞–Ј–∞–і? –Ь–Њ–ґ–µ—В, –њ—А–Є—И–µ–ї –Ї –љ–∞–Љ –Ь–µ—Б—Б–Є—П, –Є –≤—Б–µ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–ї–Є –Є–Ј –Љ–µ—А—В–≤—Л—Е? –Э–µ –Ј–љ–∞—О. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –Ј–љ–∞—О: –љ–Є –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–Њ–≤ –Ь–µ—Б—Б–Є—П —В–∞–Ї –љ–µ –±—А–µ–Ј–ґ–Є—В, –≤–Є–і–Є—В –С–Њ–≥, –Ї–∞–Ї –≤ —Н—В–Њ–Љ «–Ы–∞—А–µ»… –Ь–Њ–є –і—Г—И–µ–≤–љ–Њ–Ј–і–Њ—А–Њ–≤—Л–є –і—А—Г–≥ N, –љ–∞—З–Є—В–∞–≤—И–Є—Б—М «–Ы–∞—А–Є», —А–µ–Ј—О–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї: «–У–µ—А–Њ–є –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–∞–µ—В —Г–ґ–µ –Ї –Ї–Њ–љ—Ж—Г —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞. –†–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–є. –Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–є –ї–µ–≥–Ї–Њ. –Т—Б–µ–Љ –±—Л —В–∞–Ї!» –Ъ —Б–ї–Њ–≤—Г, N — –Њ–љ —В–Њ–ґ–µ –њ–Є—И–µ—В. –Ш –≤—А–Њ–і–µ –ґ –Њ–љ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М –љ–µ–њ–ї–Њ—Е–Њ–є. –Э–Њ –≤–Њ—В —Е–Њ—В–µ–ї –њ—А–Њ—З–µ—Б—В—М —П —З—В–Њ-—В–Њ –Љ–µ–ґ–і—Г —Б—В—А–Њ–Ї — –∞ —В–∞–Љ –њ—А–Њ–±–µ–ї. –£ –†–∞—Д–µ–µ–љ–Ї–Њ –Љ–µ–ґ–і—Г —Б—В—А–Њ–Ї –њ—А–Њ–±–µ–ї–∞ –љ–µ—В! –С–ї–Є—Б—В–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј! –Ь–µ—Б—В–∞–Љ–Є — –≥–Њ–Љ–µ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Б–Љ–µ—И–љ–Њ–є. –Т–Ј—П—В—М —Е–Њ—В—П –±—Л —Н—В—Г –°–≤–µ—В–Ї—Г. –•–Њ—В—П –ї—Г—З—И–µ — –љ–µ—В, –µ–µ –љ–µ –±—А–∞—В—М, –∞ –ї—Г—З—И–µ –±—Л—В—М –њ–Њ–і–∞–ї—М—И–µ –Њ—В –љ–µ–µ… «–Э–µ–≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–љ—Л–µ –≥–ї–∞–≥–Њ–ї—Л» –Њ—З–µ–љ—М –∞–≤—В–Њ–±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–љ—Л, –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Њ—З–µ–љ—М! –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –≤ –љ–Є—Е –Њ—З–µ–љ—М –∞–≤—В–Њ–±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–љ–Њ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ –њ–∞—А–Ї –љ–∞–і —А–µ–Ї–Њ–є, –Њ—З–µ–љ—М –∞–≤—В–Њ–±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–љ–Њ — —Д–∞–Ј–∞–љ —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –Њ–њ–µ—А–µ–љ–Є–µ–Љ, –і–∞ –Є –≤—Б–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–Њ –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ. –Ш–ї–Є –≤–Њ—В —З–Є—В–∞—О: —Е–Њ–Љ—П–Ї —Е–Њ–Љ—П–Ї–Њ–Љ. –Ъ—В–Њ —Н—В–Њ? –С–∞, –і–∞ —Н—В–Њ –ґ–µ —Б–∞–Љ –∞–≤—В–Њ—А!
–≠—В–∞ –Ї–љ–Є–≥–∞ —Б–Љ–µ–ї–Њ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –±—Л—В—М –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ –љ–∞ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–љ–Њ–Љ –Ј–∞–≤–Њ–і–µ. –Ы–Є—В–Њ–є —В–µ–Ї—Б—В! –І–Є—В–∞–ї-—З–Є—В–∞–ї, –≤—Б–µ —А–Њ–≤–љ–µ–љ—М–Ї–Њ, –≤—Б–µ –њ–ї–∞–≤–љ–Њ, –≤–і—А—Г–≥ —В–µ–Ї—Б—В –і–µ—А–љ—Г–ї—Б—П. –ѓ —Б—А–∞–Ј—Г –њ–Њ–љ—П–ї: –≤ —Н—В–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ –∞–≤—В–Њ—А –љ–∞ –Љ–Є–љ—Г—В—Г –Њ—В–ї—Г—З–Є–ї—Б—П. –Ш–Ј–≤–Є–љ–Є—В–µ –Ј–∞ —В–∞–Ї–Њ–є –љ–∞—В—Г—А–∞–ї–Є–Ј–Љ. –Т–Њ—В –Є —А—Л–≤–Њ–Ї… –ѓ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–љ–Є–ї –Є —Г—В–Њ—З–љ–Є–ї. –Ф–∞, –Њ–љ –њ–Њ–Љ–љ–Є—В, –і–∞, –Њ–љ –Њ—В–ї—Г—З–∞–ї—Б—П, –Љ–µ–ґ–і—Г –њ—П—В–Њ–є –Є –і–µ—Б—П—В–Њ–Ї —Б—В—А–Њ—З–Ї–Њ–є —Б–≤–µ—А—Е—Г…
–І—В–Њ–±—Л –∞–≤—В–Њ—А–∞ –љ–µ–љ–∞—А–Њ–Ї–Њ–Љ –љ–µ —Б–њ—Г—В–∞–ї–Є —Б –і—А—Г–≥–Є–Љ –†–∞—Д–µ–µ–љ–Ї–Њ (–†–∞—Д–µ–µ–љ–Њ–Ї –љ–∞ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–µ, –Ї–∞–Ї —Б–Њ–±–∞–Ї), –∞–≤—В–Њ—А –Љ–µ–ґ–і—Г —Б—В—А. 4 –Є —Б—В—А. 6 –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В —Б–≤–Њ—О —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—О. –Э–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –∞ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Љ–∞—Ж–µ–њ—Г—А–Њ—З–Ї–∞! –Ч–∞–Љ–µ—З–∞–ї–Є –Њ—З–µ–љ—М –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ: –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤–љ–µ—И–љ–Њ—Б—В—М –†–∞—Д–µ–µ–љ–Ї–Њ, –і–∞–љ–љ—Г—О –≤ –њ—А–Њ—Д–Є–ї—М, –њ—А–Є–Љ–µ—А—П–µ—И—М –љ–∞ —Б–µ–±—П, –і–∞–ґ–µ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –Ї –ї—Г—З—И–µ–Љ—Г –Љ–µ–љ—П–µ—В—Б—П, –≤–Њ—В –≤ —З–µ–Љ —Б–Є–ї–∞ –µ–≥–Њ «–Э–µ–≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–љ—Л—Е –≥–ї–∞–≥–Њ–ї–Њ–≤», –ґ–µ—З—М —Б–µ—А–і—Ж–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є — –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ —Н—В–Њ–є —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–Є… –Ъ —Б–ї–Њ–≤—Г, —Н—В–Њ —Д–Њ—В–Њ –љ–∞ —Б—В—А. 5 —П –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–ї –±—Л —В–∞–Ї: «–Р —В–µ–њ–µ—А—М –њ–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–Љ –Њ —Б–Њ–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ». –У–Њ–≤–Њ—А–Є—В…
–С. –Ю–Ї—Г–і–ґ–∞–≤–∞, –Є–Ј «–£–њ—А–∞–Ј–і–љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞»:
–Ъ —З–µ–Љ—Г —П —Н—В–Њ? –Р –Ї —В–Њ–Љ—Г: —Г –†–∞—Д–µ–µ–љ–Ї–Њ –і–Є–≤–љ—Л–µ —Б—О–ґ–µ—В—Л! –Э–∞ –њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В–∞—Е –љ–µ —Б–Ї—А–Є–њ—П—В. –Ґ–∞–Љ, –≥–і–µ –љ—Г–ґ–љ–Њ, — —В–∞–Љ –≤—Б—С —Б–Љ–∞–Ј–∞–љ–Њ, –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М… –•–Њ—В—П –љ–µ –≤—Б—С. –Ш–љ–Њ–≥–і–∞ —Е–Њ—З–µ—В—Б—П –±–Њ–ї—М—И–µ–є —Г–±–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –£ –≥–µ—А–Њ–µ–≤ — –±–Њ–ї—М—И–µ–є –Љ–Њ—В–Є–≤–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Ї–Њ–≤. –Ш –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–є –ї–Њ–≥–Є–Ї–Є — –≤–Њ –≤—Б–µ–Љ!
–Ч–∞–і–љ–Є–Љ–Є –і–≤–Њ—А–∞–Љ–Є –≤ –Ї–љ–Є–≥—Г –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –†–∞—Д–µ–µ–љ–Ї–Њ –њ—А–Њ–±–Є—А–∞—О—В—Б—П –≤–µ–Ј–і–µ—Б—Г—Й–Є–µ –µ–≤—А–µ–Є. –Ъ —З–µ–Љ—Г –Њ–љ–Є –Ј–і–µ—Б—М? –Т–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л–Љ. –Ъ—А–∞—Б–Є–≤–∞—П —В–Њ–ї—Б—В–∞—П –і–Њ–±—А–∞—П —Б–µ–Љ–Є—В–Ї–∞ –†–Њ–Ј–∞ — —А–∞–Ј. –Ю–њ—П—В—М –ґ–µ —Д–Є–Ј—А—Г–Ї –†–∞—Д–∞—Н–ї—М –°–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤–Є—З. –Ш–ї–Є –Ь—Н–є. –ѓ –і—Г–Љ–∞–ї —Е–Њ—В—М –Т–∞–љ–µ—Б—Б–∞, –љ–µ—В, —В—Г–і–∞ –ґ–µ! –Ю–љ–∞ –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞ –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–є –Ї—А–∞—Б–Њ—В—Л. –Т–њ–Њ–ї–љ–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ. –Ф–∞–ї—М—И–µ, –Ы–∞—А–Є—Б–∞ –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–љ–∞, –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –±—Л… –Я–∞–њ–∞—И–∞! –Ф–∞–ї—М—И–µ, –і—А—Г–≥ —Д–Є–ї–Њ–ї–Њ–≥, —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–Љ–Њ–љ—В–µ—А –Є–Ј –£—Б—Б—Г—А–Є–є—Б–Ї–∞. –ѓ —Г–ґ–µ –Љ–Њ–ї—З—Г –њ—А–Њ –Ь–Њ–Є—Б–µ—П… –І–µ—Б—В–љ–Њ, —П —Г–ґ–µ –љ–µ —Г–і–Є–≤–ї—О—Б—М, –µ—Б–ї–Є –µ–≤—А–µ–є–Ї–Њ–є –Њ–Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П —П–њ–Њ–љ–Ї–∞ –•–Є–±–∞–Ї—Г—Б—П –Є–ї–Є –Ї–∞–Ї —В–∞–Љ. –Ч–∞—З–µ–Љ –Є—Е —В–∞–Ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ, — —А–∞–Ј–Љ—Л—И–ї—П—О —П, — –љ–∞ 140 —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж –ґ–Є–≤–Њ–≥–Њ —В–µ–Ї—Б—В–∞? –Э–µ—В, —П –љ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –µ–≤—А–µ–µ–≤. –ѓ –Њ—В—З–∞—Б—В–Є —Б–∞–Љ —В–∞–Ї–Њ–є. –Э–Њ, –Є–Ј–≤–Є–љ–Є—В–µ, –њ–Њ–≤—В–Њ—А—О—Б—М: –Ј–∞—З–µ–Љ —В–∞–Ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ? –Я–µ—А–≤–∞—П –Љ—Л—Б–ї—М, –Љ–Њ–ґ–µ—В, –Њ–±–Є–і–љ–∞—П –Є–ї–Є –і–∞–ґ–µ –Њ—Б–Ї–Њ—А–±–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П: –∞, –Љ–Њ–ґ–µ—В, –†–∞—Д–µ–µ–љ–Ї–Њ –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Е–Њ—З–µ—В —Б–њ–∞—Б—В–Є—Б—М? –Т —Н—В–Є, –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ, –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞? –Э–µ –Ј–љ–∞—О… –°–і–∞–µ—В—Б—П –Љ–љ–µ, –Њ—Е –Ї–∞–Ї —Б–і–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ, –≥–ї—П–і—П, –Ї–∞–Ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–Њ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Ї –µ–≤—А–µ—П–Љ, –С–Њ–≥ –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —А–∞–Ј –њ—А–Њ–≤–µ—А—П–µ—В —Н—В–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–Њ –љ–∞ –≤—И–Є–≤–Њ—Б—В—М (–њ—А–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–ї–Њ—Б—М –Є –љ–µ —А–∞–Ј). –Р, –Ї–∞–Ї –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, –С–Њ–≥ –і–Њ–ї–≥–Њ —В–µ—А–њ–Є—В, –љ–Њ –Ї—А–µ–њ–Ї–Њ –±—М–µ—В. –ѓ –≤—Б—С —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї. –Э–µ—В, –њ—А–∞–≤–і–∞, –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–Є—В–µ, –≤—Б—С –ґ–µ —Б—Е–Њ–і–Є—В—Б—П. –Х–≤—А–Њ–њ–∞ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є–ї–∞ –µ–≤—А–µ–µ–≤, —В–∞–Ї? –Ъ—В–Њ –њ—А–Є—И–µ–ї –љ–∞ –Є—Е –Љ–µ—Б—В–Њ? –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –і–Њ–±—А—Л–µ —В–Є—Е–Є–µ –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ–µ. –° –і–Њ–±—А–Њ–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–љ–Њ–є —А–µ–ї–Є–≥–Є–µ–є… –Я–µ—А–≤—Л–є –Ј–≤–Њ–љ–Њ—З–µ–Ї –±—Л–ї —Б–Љ–µ—И–љ–Њ–є. –≠—В–Є —В–Є—Е–Є–µ –Є –Љ–Є—А–љ—Л–µ — –њ—А–Њ—В–Є–≤ «–Ґ—А–µ—Е –њ–Њ—А–Њ—Б—П—В». –Ч–∞–±–∞–≤–љ–Њ, –љ–µ –њ—А–∞–≤–і–∞ –ї–Є? –Я–Њ—В–Њ–Љ –Њ–љ–Є –Њ–њ–Њ–ї—З–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Ь–Њ—Ж–∞—А—В–∞. –Ш –≤–∞—И–Є —Г–ї—Л–±–Ї–Є –Њ–Ї–∞–Љ–µ–љ–µ–ї–Є. –Ф–∞–є—В–µ –≤—А–µ–Љ—П, –Њ–љ–Є —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ—П—В –≤–∞—И–Є –ї—Г–≤—А—Л, –≤–∞—И–Є –ї–∞–≤—А—Л… –Р –≤–µ–і—М —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ—П—В, –љ–µ —Б–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞–є—В–µ—Б—М! –Э–µ —А–∞–Ј–і—Г–Љ—Л–≤–∞—П. –Т–∞—И—Г –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Г –Њ–љ–Є –њ—Г—Б—В—П—В –њ–Њ–і –љ–Њ–ґ, —З–Є—Б—В—Л–µ, –≥—Г–Љ–∞–љ–љ—Л–µ, —В–µ—А–њ–Є–Љ—Л–µ. –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ –Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Г. –Э–∞ –љ–µ–і–Њ—А–µ–Ј–∞–љ–љ—Л—Е –љ–∞—Ж–µ–њ—П—В –њ–∞—А–∞–љ–і–ґ—Г. –Ю–љ–Є –ґ–µ –≤–∞—Б, –і–∞–≤—И–Є—Е –Є–Љ –њ—А–Є—О—В, –љ–µ–љ–∞–≤–Є–і—П—В –ї—О—В–Њ–є –љ–µ–љ–∞–≤–Є—Б—В—М—О, –Њ–љ–Є –ґ–µ –≤–∞—Б, –Ї–∞–Ї –±—Л —Н—В–Њ –Љ—П–≥—З–µ, –њ—А–µ–Ј–Є—А–∞—О—В. –Ґ–Њ—З—М-–≤-—В–Њ—З—М, –Ї–∞–Ї –≤—Л –µ–≤—А–µ–µ–≤. –Ъ—В–Њ-—В–Њ —Г–ґ–µ –Њ—З–љ—Г–ї—Б—П, –њ—А–Њ–Ї—А–Є—З–∞–≤ «–Ь–µ—З–µ—В—М –Я–∞—А–Є–ґ—Б–Ї–Њ–є –С–Њ–≥–Њ–Љ–∞—В–µ—А–Є». –Ю–њ—П—В—М –ґ–µ, –Ю—А–Є–∞–љ–∞ –§–∞–ї–ї–∞—З–Є. –Э–Њ –і–Њ—И–ї–Њ –і–Њ –µ–і–Є–љ–Є—Ж… –Р—Е, –љ–µ —В—А–Њ–≥–∞–ї–Є –± –µ–≤—А–µ–µ–≤, –µ—Б—В—М –ґ–µ –С–Њ–≥!..
–Э–µ—В –љ–∞–і–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є —Б–њ–Њ—А–Є—В—М, —А–Њ–Љ–∞–љ —Н—В–Њ –Є–ї–Є –љ–µ—В. –Ъ–∞–Ї–∞—П —А–∞–Ј–љ–Є—Ж–∞: –У–Њ–≥–Њ–ї—М –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї –њ–Њ—Н–Љ—Г, –Є–ї–Є —Н—В–Є «–Ь–µ—А—В–≤—Л–µ –і—Г—И–Є» –±–µ—Б—Б–Љ–µ—А—В–љ—Л –њ—А–Њ—Б—В–Њ —В–∞–Ї! –Э–µ –і–∞—А–Њ–Љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П: «–Ъ—Г–ї—М—В—Г—А–∞ — —Н—В–Њ –Њ–Ї–µ–∞–љ, –≥–і–µ –Њ–і–љ–∞ –≤–Њ–ї–љ–∞ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Є—В –≤ –і—А—Г–≥—Г—О, –Є –∞–±—Б—Г—А–і–љ–Њ –њ—А–Є–і—Г–Љ—Л–≤–∞—В—М –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –і–ї—П –Ї–∞–ґ–і–Њ–є». –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —Н—В–Њ —А–Њ–Љ–∞–љ! –Ш–ї–Є –њ–Њ–≤–µ—Б—В—М. –Р, –Љ–Њ–ґ–µ—В –Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Њ–Ї. –Ъ–љ–Є–≥–∞, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ–∞—П –≤ –ґ–∞–љ—А–µ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Ї–∞, —Б—В–Њ–Є—В –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–≥–Њ (–њ—Г—Б—В—М —В–µ, –Ї—В–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —Н—В—Г –Ї–љ–Є–≥—Г –Њ—В –∞–≤—В–Њ—А–∞ –≤ –њ–Њ–і–∞—А–Њ–Ї, –љ–µ –Њ–±–Њ–ї—М—Й–∞—О—В—Б—П)…
–†–∞—Д–µ–µ–љ–Ї–Њ —А–µ–і–Ї–Њ—Б—В–љ—Л–є –±—А–µ—Е—Г–љ. –Т –Ї–∞–Ї–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ? –£ –љ–µ–≥–Њ –≤ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–µ «–†–µ–і—М–Ї–∞» –Љ—Г–ґ—З–Є–љ–∞ —Б–њ–Є—В, —Б –Ї–µ–Љ –±—Л –≤—Л –і—Г–Љ–∞–ї–Є? –° –Љ—Г–ґ—З–Є–љ–Њ–є? –Х—Б–ї–Є –±—Л! –Э–µ—Г–ґ–µ–ї–Є —Б —Б–Њ–±–∞–Ї–Њ–є? –І–µ—Б—В–љ–Њ —Б–ї–Њ–≤–Њ, –ї—Г—З—И–µ –±—Л —Б —Б–Њ–±–∞–Ї–Њ–є! –° –Ї–Њ—А–љ–µ–њ–ї–Њ–і–Њ–Љ! –° —А–µ–і—М–Ї–Њ–є!!! –Ю–љ, —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–Є, —Б–њ–Є—В —Б —А–µ–і—М–Ї–Њ–є, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В–µ?! –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ —В–∞–Ї–Є—Е, –Ї–∞–Ї –†–∞—Д–µ–µ–љ–Ї–Њ, –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞ –Ф–Є–љ–∞ –†—Г–±–Є–љ–∞ (—Б–Љ. –Ї–љ. «–С–Њ–ї—М–љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–Љ–µ—О—Б—М») –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї–∞ –≤–Њ—В —З—В–Њ… –Ґ–∞–Ї, –Љ–Є–љ—Г—В–Њ—З–Ї—Г. –У–і–µ —Н—В–∞ —Ж–Є—В–∞—В–∞? –Т–Њ—В —Ж–Є—В–∞—В–∞! «–•–Њ—А–Њ—И–Є–є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М –≤—Б–µ–≥–і–∞ –≤—А—Г–љ –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –Њ—Б–ї–µ–њ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞». –Ш –≤ —Н—В–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ –†–∞—Д–µ–µ–љ–Ї–Њ –Њ—Б–ї–µ–њ–ї—П–µ—В! –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≤–Њ–ї—И–µ–±–љ—Л–є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З–∞ –†–∞—Д–µ–µ–љ–Ї–Њ «–†–µ–і—М–Ї–∞» —В—А–Њ–љ—Г–ї –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–µ–љ—П. –Ю–љ —В–∞–Ї –љ–µ–Є–Ј–≥–ї–∞–і–Є–Љ–Њ —В—А–Њ–љ—Г–ї –і—Г—И—Г –Љ–Њ–µ–є —А–Њ–і–љ–Њ–є –њ—А–∞–±–∞–±–Ї–Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ–є —Г–Ї—А–∞–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ–Ї–Є –Є–Ј-–њ–Њ–і –С–Њ–≥–Њ–і—Г—Е–Њ–≤–∞ –•–∞—А—М–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –Р–≥—А–∞—Д–µ–љ—Л –Э–Є–ї–Њ–≤–љ—Л –•–Њ—А—Г–љ–ґ–µ–є, —З—В–Њ –Њ–љ–∞, –≤ —З–µ–Љ –±—Л–ї–∞, –њ–Њ–ї–µ–Ј–ї–∞ –њ–Њ–і —Б–љ–µ–≥ –Є, –≤—Л–Ї–Њ–њ–∞–≤ —В—А–Є —А–µ–і—М–Ї–Є, –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞: «–Я–µ—А–µ–і–∞–є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—О –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Г, –∞ —Б—К–µ—И—М —Б–∞–Љ… –Т –Њ–±—Й–µ–Љ, —В—Л –ґ–µ –Љ–µ–љ—П –Ј–љ–∞–µ—И—М… –£–і–∞–≤–ї—О!». –Я—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞—В—М (–Р–Ї—В –њ–µ—А–µ–і–∞—З–Є: –њ–Њ–і–њ–Є—Б—М –Р. –Р. –Ъ–Њ—А–∞–±–ї—С–≤–∞ –Є —В. –і.)…
–Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –Ц–≤–∞–љ–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –≤ –Ф–Њ–љ–µ—Ж–Ї–µ —Г–і–∞—А–Є–ї –Љ–љ–µ –≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ, —З—В–Њ —П –њ—А–Њ–±—А–∞–ї—Б—П –Ј–∞ –Ї—Г–ї–Є—Б—Л, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ—Б–Њ–≤–µ—В–Њ–≤–∞—В—М –Ь–Є—Е–∞–Є–ї—Г –Ц–≤–∞–љ–µ—Ж–Ї–Њ–Љ—Г –≤–Њ—В —З—В–Њ: —Б –≤–∞—И–Є–Љ, –љ–µ –њ–Њ–±–Њ—О—Б—М, —Г–Љ–Њ–Љ, — –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї —П –∞–≤—В–Њ—А—Г «–†–∞–Ї–Њ–≤» –Є «–°–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –љ–∞ –ї–Є–Ї–µ—А–Њ-–≤–Њ–і–Њ—З–љ–Њ–Љ –Ј–∞–≤–Њ–і–µ», — –≤–∞–Љ –љ—Г–ґ–љ–Њ –і–Њ–њ–Є—Б–∞—В—М –С–Є–±–ї–Є—О –і–Њ –љ–∞—И–Є—Е –і–љ–µ–є. «–Ъ—В–Њ –µ–≥–Њ —Б—О–і–∞ –њ—Г—Б—В–Є–ї?!« — –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї –Ї—А–Є–Ї–Њ–Љ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Ц–≤–∞–љ–µ—Ж–Ї–Є–є. –Ш –Љ–µ–љ—П –≤—Л–њ–µ—А–ї–Є. –Я–Њ—В–Њ–Љ —З–Є—В–∞—О —П — –∞ —Н—В–Њ –ґ –С–Є–±–ї–Є—П! –Ґ—Г–і–∞ –ґ–µ –≥–љ–µ—В –Є –†–∞—Д–µ–µ–љ–Ї–Њ. –Х–≥–Њ –Ї–љ–Є–≥–∞ — —Н—В–Њ «–≠–Ї–Ї–ї–µ–Ј–Є–∞—Б—В» –љ–∞—И–Є—Е –і–љ–µ–є: —В–Њ—Б–Ї–∞, —В–Њ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ –і—Г—Е–∞, —В–ї–µ–љ –Є –њ–µ–њ–µ–ї. –Э–µ–ї–µ–њ–Њ—Б—В—М, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ, –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –ґ–µ –љ–∞ —З–µ–Љ-—В–Њ –Њ–±–Њ—А–≤–∞—В—М—Б—П. –Т—Б–µ —Б–≥–Њ—А–∞–µ—В. –Э–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П. –Р –Ј–∞—З–µ–Љ –Њ–љ–Њ –љ–∞–Љ –љ–∞–і–Њ? –Ч–љ–∞—З–Є—В, –љ–∞–і–Њ! –Ґ–∞–Ї —З—В–Њ –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–µ «…–≥–ї–∞–≥–Њ–ї–Њ–≤» —Б–ї–Њ–≤–Њ «–Ъ–Њ–љ–µ—Ж» –≤–µ–љ—З–∞–µ—В –љ–µ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ. –≠—В–∞ –Ї–љ–Є–≥–∞ —Г—З–Є—В: –≤—Б—С –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є—В.
–Х—Б–ї–Є «–Э–µ–≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–љ—Л–µ –≥–ї–∞–≥–Њ–ї—Л» –і–∞—В—М –љ–∞—З–Є–љ–∞—О—Й–Є–Љ –њ—Б–Є—Е–Є–∞—В—А–∞–Љ, —В–Њ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ—Г –Є–Ј –≥–µ—А–Њ–µ–≤ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –≤—Л—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –љ–µ—Г—В–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –і–Є–∞–≥–љ–Њ–Ј: –†–∞—Д–µ–µ–љ–Ї–Њ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—Л–Љ–Є –љ–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Г–µ—В—Б—П –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Є–∞–ї—М–љ–Њ. –£–≤—Л, –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—Л–µ —Е–Њ—А–Њ—И–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–ї—П —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –≤ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Њ–љ–Є —В–∞–Ї–Є–µ —Б–Ї—Г—З–љ—Л–µ! –°–ї–∞–≤–∞ –С–Њ–≥—Г, –Љ—Л —Е–Њ—В—М –љ–µ —В–∞–Ї–Є–µ!
–Ф–∞ –Є —Б–∞–Љ —В–µ–Ї—Б—В –љ–µ –њ–Њ–і–Ї–∞—З–∞–ї. –Ы—Г—З—И–Є–µ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж—Л —Н—В–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–Є —Б –њ–Њ–ї–љ—Л–Љ –њ—А–∞–≤–Њ–Љ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ—В–љ–µ—Б—В–Є –Ї –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –±—А–µ–і—Г —Б —П—А–Ї–Є–Љ–Є –Ј–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—Й–Є–Љ–Є—Б—П –≥–∞–ї–ї—О—Ж–Є–љ–∞—Ж–Є—П–Љ–Є. –Х–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Љ–µ–ї–Њ —А–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–Њ–≤–∞—В—М –і–µ—В—П–Љ –і–Њ 16 –ї–µ—В –і–ї—П –њ–Њ–≤–Ј—А–Њ—Б–ї–µ–љ–Є—П —Н–Ї—Б—В–µ—А–љ–Њ–Љ (—Ж–Є—В–∞—В—Л)…
–Ъ–љ–Є–≥–∞ —В–∞–Є—В –љ–Є–Љ–∞–ї–Њ –Ј–∞–≥–∞–і–Њ–Ї. –Ъ—В–Њ –Њ—Д–Њ—А–Љ–Є—В–µ–ї—М –Ї–љ–Є–≥–Є? –Ь–Њ–ї—З–Њ–Ї. –Ъ—В–Њ –Ї–Њ—А—А–µ–Ї—В–Њ—А? –Ь–Њ–ї—З–Њ–Ї. –Ъ—В–Њ —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д? –Ъ—В–Њ –њ–Њ–і–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї –≤ –њ–µ—З–∞—В—М? –Ъ–∞–Ї–Њ–є —В–Є—А–∞–ґ?.. –Ъ–∞–ґ–µ—В—Б—П, —З—В–Њ —Н—В–∞ –Ї–љ–Є–≥–∞ —Г–њ–∞–ї–∞ —Б –љ–µ–±–∞. –° –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ –Ј–∞—И–Є–±–ї–∞ — —Б–њ–∞—Б–Є–±–Њ –Є –љ–∞ —В–Њ–Љ…
–Т –Ї–љ–Є–≥–µ –Ј–∞—И–Є—Д—А–Њ–≤–∞–љ–Њ –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–Є–µ. –Р–≤—В–Њ—А —Б–∞–Љ –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –љ–µ –і–Њ–≥–∞–і—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –µ–≥–Њ —А—Г–Ї–Њ–є –≤–Њ–і–Є–ї —Б–∞–Љ… –Ф–∞–ґ–µ –±–Њ—О—Б—М —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –Ї—В–Њ —Б–∞–Љ, –љ–Њ —В–Њ, —З—В–Њ —Б–∞–Љ, —В–∞–Ї —Н—В–Њ —В–Њ—З–љ–Њ –°–∞–Љ…
–Ъ–љ–Є–≥–∞, –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–∞—П –њ–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞–Љ, –Њ—Б–љ–∞—Й–µ–љ–∞ —В–∞–Ї–Њ–є —В—П–ґ–µ–ї–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–µ–є —Н–њ–Є–≥—А–∞—Д–Њ–≤, —З—В–Њ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Њ—В–Њ—А–Њ–њ—М –±–µ—А–µ—В. –С—Г–і—Г—Й–Є–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є-—А–∞—Д–µ–µ–љ–Ї–Њ–≤–µ–і—Л –њ–Њ —Н—В–Є–Љ —Н–њ–Є–≥—А–∞—Д–∞–Љ –±—Г–і—Г—В —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Ї—А—Г–≥ –µ–≥–Њ —З—В–µ–љ–Є—П, –Є —Б–≤–µ—В–ї–Њ–є –њ–∞–Љ—П—В–Є –і–Њ–љ–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –≥–µ–љ–Є—П –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ—Е –Ї–∞–Ї –љ–µ –њ–Њ–Ј–і–Њ—А–Њ–≤–Є—В—М—Б—П…
–Х—Б–ї–Є –≤ –†–∞—Д–µ–µ–љ–Ї–Њ –µ—Б—В—М –љ–µ—Б—Г—А–∞–Ј–љ–Њ—Б—В–Є, —В–∞–Ї —Н—В–Њ –љ–µ –≤ –љ–µ–Љ, –∞ –≤ –љ–∞—И–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є. –≠—В–Њ –Њ–љ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В —Г–і–∞—А –љ–∞ —Б–µ–±—П. –Р, –≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –љ–µ –Ј–љ–∞—О. –Ґ–∞–Ї, –љ–∞ —Б—В—А. 97. –∞–≤—В–Њ—А –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В «…—Б—В–∞—А—Г—О –≤–µ–і—М–Љ—Г — –±–µ–Ј–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Г—О, –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ—Г—О: –љ–Є–ґ–љ—П—П –≥—Г–±–∞ –≤–Є—Б–µ–ї–∞ —Г –љ–µ–µ –і–Њ —Б–∞–Љ–Њ–є –≥—А—Г–і–Є». –Р —З—Г—В—М –љ–Є–ґ–µ –∞–≤—В–Њ—А, –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П –µ–µ –ґ–µ, –њ–Є—И–µ—В, —З—В–Њ –Њ–љ–∞, —Н—В–∞ –≤–µ–і—М–Љ–∞ — «–љ–µ–Љ–Њ–ї–Њ–і–∞—П —Г–ґ–µ, –љ–Њ –µ—Й–µ –Њ—З–µ–љ—М –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞—В–µ–ї—М–љ–∞—П –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞». –І—В–Њ –і–µ–ї–∞—В—М —Б –∞–≤—В–Њ—А–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Љ–µ–љ—П–µ—В –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П —Б —В–∞–Ї–Њ–є –ї–µ–≥–Ї–Њ—Б—В—М—О? –Т —З–µ–Љ —Б–Є–ї–∞, –±—А–∞—В? –Т —З–µ–Љ —О–Љ–Њ—А, –†–∞—Д–µ–µ–љ–Ї–Њ –Э–µ—В, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —З–Є—В–∞—В–µ–ї—М –Љ–Њ–ґ–µ—В –і–Њ–Љ—Л—Б–ї–Є—В—М, —З—В–Њ, –≥–Њ–≤–Њ—А—П –Њ –µ–µ –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –∞–≤—В–Њ—А –Є–Љ–µ–µ—В –≤ –≤–Є–і—Г: –Њ–љ–∞ — –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞–µ—В —Б–≤–Њ–Є–Љ —Г—А–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ. –Э–Њ —Б—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–µ—В –ї–Є —Н—В–Њ? –Т–Њ—В –љ–µ –Ј–љ–∞—О…
–°—В–Є—Е–Є. –°—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П –†–∞—Д–µ–µ–љ–Ї–Њ —Е–Њ—З–µ—В—Б—П —Ж–Є—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М, –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—П —Н—Д—Д–µ–Ї—В –љ–∞ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ –Є –≤—Л–і–∞–≤–∞—П –Є—Е –Ј–∞ —Б–≤–Њ–Є. –Р –µ—Б–ї–Є —В–µ–±—П –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Г–ї–Є—З–∞—В, —З—В–Њ –љ–∞ –Њ–±–ї–Њ–ґ–Ї–µ –≤—Б–µ –ґ–µ «–†–∞—Д–µ–µ–љ–Ї–Њ», –∞ –љ–µ —В—Л, — –Њ–є, –У–Њ—Б–њ–Њ–і–Є, —Б–Њ–Њ–±—Й–Є, —З—В–Њ —Н—В–Њ —В–≤–Њ–є –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–є –њ—Б–µ–≤–і–Њ–љ–Є–Љ… –Ъ–ї–∞—Б—Б–Є–Ї: —Б—В–Є—Е–Є –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л—В—М –≥–ї—Г–њ–Њ–≤–∞—В—Л. –Р —З–Є—В–∞–µ—И—М –†–∞—Д–µ–µ–љ–Ї–Њ –Є –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—И—М… –Э–µ—В, —Н—В–Њ —В—Л –≥–ї—Г–њ–Њ–≤–∞—В —Н—В–Њ–Љ—Г —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—О, — –і—Г–Љ–∞—О —П –Њ —Б–µ–±–µ. — –Э–µ –њ—А–Њ —В–µ–±—П –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ—Л —Н—В–Є —Б—В–Є—Е–Є, — –і—Г–Љ–∞—О —П. — –Ґ—Л –њ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–є —Н—В–Њ–Љ—Г —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—О. –Х—Б–ї–Є —В—Л –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—И—М —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П. –Р —Б—В–Є—Е–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–µ.
–Ъ–Њ–≥–і–∞ –≤—Л—И–ї–∞ –Љ–Њ—П –њ–µ—А–≤–∞—П –Є, –љ–∞–і–µ—О—Б—М, –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—П—П –Ї–љ–Є–≥–∞, –Љ–Њ–є –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–є N, —В–∞–Ї —В–∞–Ї—В–Є—З–љ–Њ, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ –Њ–±–Є–і–µ—В—М… –ѓ –µ–Љ—Г: «–Э—Г, –Ї–∞–Ї?». –Ш –Њ–љ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї: «–Р —В–Њ, —З—В–Њ —П –і–Њ —В–≤–Њ–µ–є –Ї–љ–Є–≥–Є –љ–µ –і–Њ—А–Њ—Б, —В–∞–Ї —Н—В–Њ –њ—А–Њ—Б—В–Њ —П —В–∞–Ї–Њ–є –њ—А–Њ—Б—В—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–є». –Э—Г –љ–µ –≥–љ–Є–і–∞?! –ѓ, –Љ–µ–ґ–і—Г –њ—А–Њ—З–Є–Љ, —В–Њ–ґ–µ –љ–µ–і–∞–≤–љ–Њ –±–Њ–ї–µ–ї. –Э–Њ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –Ї –Ї–љ–Є–≥–µ –†–∞—Д–µ–µ–љ–Ї–Њ —П –≤—Л–Ј–і–Њ—А–Њ–≤–µ–ї. –•–Њ—В—П —З–µ–≥–Њ –Љ–љ–µ —Н—В–Њ —Б—В–Њ–Є–ї–Њ! –Э–µ –±—Г–і—Г…
–Т –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ –µ—Б—В—М —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В—Л —В–µ–Ї—Б—В–∞ –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–∞–Љ–Њ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ—Л–µ, —З—В–Њ —Г–ґ–µ —Б–∞–Љ–Є –њ–Њ —Б–µ–±–µ — –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–µ —И–µ–і–µ–≤—А—Л. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Ж–Є- —В–Є—А—Г—О –њ–Њ –њ–∞–Љ—П—В–Є. –С–∞–±–µ–ї—М: «–Ь–µ–і–љ—Л–є –≥–Њ–ї–Њ—Б –°–Є–Љ–Њ–љ–∞-–Т–Њ–ї—М—Д–∞ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–њ–∞—З–Є–≤–∞–ї –≤—Б–µ —Й–µ–ї–Є –≤–Њ –≤—Б–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є…» –Ш–ї–Є —Г –У–∞—И–µ–Ї–∞: «–Ц–Є–ї-–±—Л–ї –≤ –Њ–і–љ–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є –Њ–і–Є–љ –њ–Њ–њ. –Ч–≤–∞–ї–Є –µ–≥–Њ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–Љ –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З–µ–Љ –У—Г–ї—П–µ–≤—Л–Љ. –≠—В–Њ –±—Л–ї –Є—Б—В–Є–љ–љ–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤ —Б—В–∞—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Ј–∞ –љ–µ–Є–Љ–µ–љ–Є–µ–Љ –µ–≤—А–µ–µ–≤ –≤ –µ–≥–Њ —Б–µ–ї–µ –µ–Ј–і–Є–ї –љ–∞ –њ–Њ–≥—А–Њ–Љ—Л –≤ –°–∞–Љ–∞—А—Г –Є –Т–Њ—А–Њ–љ–µ–ґ…» –£ –†–∞—Д–µ–µ–љ–Ї–Њ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –і–Є–≤–љ—Л—Е —Д—А–∞–Ј (—Ж–Є—В–∞—В—Л). –Ш –≤–Њ—В, –Љ–љ–µ –і–∞–ґ–µ –њ—А–Є—И–ї–Њ –≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г: —З—В–Њ–±—Л —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л –љ–µ –њ–Њ—А—В–Є–ї–Є—Б—М, –Є—Е, –Ї–∞–Ї –љ–∞—Д—В–∞–ї–Є–љ–Њ–Љ, –љ—Г–ґ–љ–Њ –њ–µ—А–µ—Б—Л–њ–∞—В—М —Д—А–∞–Ј–∞–Љ–Є. –†–∞—Д–µ–µ–љ–Ї–Њ —Н—В–Њ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М, –Ї–∞–Ї –љ–Є–Ї–Њ–Љ—Г (–Њ–њ—П—В—М —Ж–Є—В–∞—В—Л)…
–Ґ—Г—В –Љ–Њ–є –і—А—Г–≥ –љ–µ—Г–≥–Њ–Љ–Њ–љ–љ—Л–є, —В–Њ—В –ґ–µ N, –Љ–љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В: «–Р –≤ –Ї–љ–Є–≥–µ — —Н—Д—Д–µ–Ї—В –і–Њ–є–љ–Њ–є –Ї–Њ—А–Њ–≤—Л. –≠—В–Њ –Ї–∞–Ї? –Р —Н—В–Њ —В–∞–Ї. –Ґ–∞–Ї, –і–∞–ї–∞ –Ї–Њ—А–Њ–≤–∞ –њ–Њ–ї–љ–Њ–µ –≤–µ–і—А–Њ. –Ц–Є—А–љ–Њ–µ, —Е–Њ—А–Њ—И–µ–µ, –њ–∞—А–љ–Њ–µ. –Я–Њ—В–Њ–Љ — —Е–Њ–њ, –љ–Њ–≥–Њ–є –њ–µ—А–µ–≤–µ—А–љ—Г–ї–∞. –Ш —В–Њ–ї–Ї—Г, —З—В–Њ –Њ–љ–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ –ґ–Є—А–љ–Њ–µ… –Ґ–∞–Ї –Є –∞–≤—В–Њ—А. –°–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї-—Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї –Њ—З–µ–љ—М —В–Њ–љ–Ї–Є–µ, –і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ—Л–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Л, –љ–µ —Е–Њ–і—Г–ї—М–љ—Л–µ — –ґ–Є–≤—Л–µ, –≤—Л—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ. –Ч–∞–і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤—Б—С –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ — –Љ—Л –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–∞–ї–Є—Б—М, —Б–Њ–њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–ї–Є… –Ґ–Њ–ї–Ї—Г?! –Х—Б–ї–Є –∞–≤—В–Њ—А, –њ–Њ—Е–Њ–і—П, –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ–±—А–Њ–љ–Є—В—М (—Б—В—А. 119): –Љ–Њ–ї, —З–µ–≥–Њ —Н—В–Њ –≤—Л —В–∞–Ї –≤–Њ–ї–љ—Г–µ—В–µ—Б—М? –С—Г–і–µ—В –≤–∞–Љ! «–≠—В–Њ –ґ–µ —А–Њ–Љ–∞–љ, –≤—Б–µ –њ–Њ–љ–∞—А–Њ—И–Ї—Г, –≤—Б–µ–≥–Њ –ґ–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ—В. –Э–Є –Ь—Н–є, –љ–Є –°–∞—Ж—Г–Ї–Є…» –Ш –њ–Њ—И–µ–ї –≤—Л—И–Є–≤–∞—В—М —Б–µ–±–µ –і–∞–ї—М—И–µ… –Р–≤—В–Њ—А —З—В–Њ, –≥–ї—Г–Љ–Є—В—Б—П –љ–∞–і —З–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–Љ? –Ю–љ –µ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–Њ–і–Є—В? –®—Г—В–Є—В —В–∞–Ї? –Ф–∞ –Њ–љ, –њ–Њ —Б—Г—В–Є, –Њ—Б–Ї–Њ—А–±–ї—П–µ—В –і–Њ–≤–µ—А—З–Є–≤–Њ–≥–Њ —З–Є—В–∞—В–µ–ї—П –≤ –µ–≥–Њ –ї—Г—З—И–Є—Е —З—Г–≤—Б—В–≤–∞—Е! –Ю–љ —Г–±–Є–≤–∞–µ—В —В–µ–∞—В—А, —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ—Л–є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —А—Г–Ї–∞–Љ–Є. –Ш, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –Њ–љ —З—В–Њ, —Б–∞–Љ –љ–µ –≤–µ—А–Є—В –≤ —В–Њ, —З—В–Њ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї?! –Ґ–∞–Ї –љ–∞ —Е–µ—А–∞?! –Р –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ. –І—В–Њ –±—Л –і–∞–ї—М—И–µ –љ–Є —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М —Б —В–Њ–є –ґ–µ –Ь—Н–є, –±—Г–і–µ–Љ –ї–Є –Љ—Л –≤–µ—А–Є—В—М –µ–є? –Р–≤—В–Њ—А—Г? –Ъ–љ–Є–≥–µ –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ? –Ф–∞ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞! –Т—Б–µ –ґ –њ–Њ–љ–∞—А–Њ—И–Ї—Г. –≠—В–Њ —Г–ґ —В–Њ—З–љ–Њ, —З—В–Њ «–µ–і–Є–љ–Њ–ґ–і—Л —Б–Њ–ї–≥–∞–≤»…» –Ш —П –Ј–∞–і—Г–Љ–∞–ї—Б—П.
–Э–µ—В —Б–Љ—Л—Б–ї–∞ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М, –Ї–∞–Ї –≤–∞–ґ–љ—Л –≤ –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Є–Љ–µ–љ–∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ. «–Ґ—Л –љ–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—И—М, —З—В–Њ, –љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞—П –Є–Љ–µ–љ–∞ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –≥–µ—А–Њ—П–Љ, –†–∞—Д–µ–µ–љ–Ї–Њ –Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ —Г–Љ–љ–Є—З–∞–µ—В? — –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Љ–љ–µ N. — –Ш —Н—В–Њ –Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ —А–∞–Ј–і—А–∞–ґ–∞–µ—В. –ѓ –Є—Й—Г –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞–љ–Є—П –µ–≥–Њ –і–Є–Ї–Њ–≤–Є–љ–љ—Л–Љ –Є–Љ–µ–љ–∞–Љ –Є —В. –і. –Э–µ –љ–∞—Е–Њ–ґ—Г. –Ґ–∞–Ї –Є —Е–Њ—З–µ—В—Б—П —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М: –љ—Г –љ–µ –≤—Л–і—А—О—З–Є–≤–∞–є—Б—П! –Ъ–∞–Ї –µ–≥–Њ —В–∞–Љ, –Т–Њ–≤–∞? –Ч–љ–∞—З–Є—В, –Т–Њ–≤–∞. –Э–µ –≤—Л–і—А—О—З–Є–≤–∞–є—Б—П! –Ґ–∞–Ї –Є —Е–Њ—З–µ—В—Б—П —Г –∞–≤—В–Њ—А–∞ —Б–њ—А–Њ—Б–Є—В—М: –∞ –њ–Њ–њ—А–Њ—Й–µ, –∞ –њ–Њ–±–µ–Ј—Л—Б–Ї—Г—Б–љ–µ–є — —З—В–Њ, –љ–Є–Ї–∞–Ї?»…
–Ш –µ—Й–µ, –њ–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г –Є–Љ–µ–љ: «–Ґ–∞–Ї—Г—А–∞–Ј–∞–≤–∞ (—Ж–Є—В–Є—А—Г—О –њ–Њ –њ–∞–Љ—П—В–Є) –С–Њ–≥–і–∞–љ–Њ–≤–Є—З». –Э—Г —З—В–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М? –Я—А–Є–µ–Љ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ –љ–Њ–≤. –Ф–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М «–Э–µ–Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В» —В–µ–∞—В—А–∞ –Ї—Г–Ї–Њ–ї –Ю–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤–∞: «–®–∞—Е–µ—А–µ–Ј–∞–і–∞ –°—В–µ–њ–∞–љ–Њ–≤–љ–∞». –Р –≤ «–Ч–∞–њ–Є—Б–љ—Л—Е –Ї–љ–Є–ґ–Ї–∞—Е» –Ш–ї—М—Д–∞ — «–У–Њ—А–њ—Л–љ—Г –Ш—Б–∞–∞–Ї–Њ–≤–љ—Г». –Ф–∞ –Є –µ—Й–µ –Љ–∞—Б—Б—Г –њ—А–Є–Љ–µ—А–Њ–≤, –≥–і–µ –≤—Л–±–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Ї–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Н—Д—Д–µ–Ї—В. –Э–Њ —Н—В–Њ –ґ –±—Л–ї–Њ! –Ш –≤—Б–µ –ґ–µ, –≤—Б–µ –ґ–µ… –Ъ–Њ–≥–і–∞ —П –Њ—В –Т. –Т. –†–∞—Д–µ–µ–љ–Ї–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –≤ –њ–Њ–і–∞—А–Њ–Ї –µ–≥–Њ –Ї–љ–Є–≥—Г –Є —В—Г—В –ґ–µ —Г—В–Ї–љ—Г–ї—Б—П, –њ–Њ—Б—А–µ–і–Є –≥–Њ—А–Њ–і–∞, –њ–Њ—Б—А–µ–і–Є –Љ–∞—И–Є–љ, –Љ–Њ—П –њ–µ—А–≤–∞—П —А–µ–∞–Ї—Ж–Є—П –±—Л–ї–∞ —В–∞–Ї–Њ–є: –Њ–є, –Ї–∞–Ї —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Є –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ! –≠—В–Њ –±—Л–ї –≤–Њ—Б—В–Њ—А–≥, —Й–µ–љ—П—З—М—П —А–∞–і–Њ—Б—В—М! –ѓ –≤ —Б–µ–±–µ –љ–µ –Љ–Њ–≥ —Г–і–µ—А–ґ–∞—В—М, —В—Г—В –ґ–µ –њ–Њ–і–µ–ї–Є–ї—Б—П —Б –∞–≤—В–Њ—А–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї—Г—О –Ї–љ–Є–≥—Г –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї –Њ–љ, –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Г—О. –Ґ—Г—В –ґ–µ, —Б –Љ–µ—Б—В–∞ –љ–µ —Б—Е–Њ–і—П, –Є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–љ–Є–ї. –Э–Њ –Ї–∞–Ї —Е–Њ–ї–Њ–і–љ—Л–є –і—Г—И — –Њ—В –Т. –Т. —П —В—Г—В –ґ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–∞—О sms-–Ї—Г: «–І–Є—В–∞–є –Њ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ». –ѓ –≤–Ј–і—А–Њ–≥–љ—Г–ї. –ѓ –њ—А–Є—И–µ–ї –і–Њ–Љ–Њ–є. –Я—А–Є–љ—П–≤ —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ, —Б—В–∞–ї —П «—З–Є—В–∞—В—М –Њ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ». –І—Г—В—М –љ–µ —Г—Б–љ—Г–ї. –І—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ? –Р —Н—В–Њ –і–µ–є—Б—В–≤—Г–µ—В –Љ–Њ–µ —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ!
–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј —Б–∞–Љ—Л–є —Б—В—А–∞—И–љ—Л–є –Є –±–µ–Ј—Л—Б—Е–Њ–і–љ—Л–є. –Ф–∞–ґ–µ –Љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є. –Ш –≤ «–Э–µ–≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–љ—Л—Е –≥–ї–∞–≥–Њ–ї–∞—Е» —Б–∞–Љ—Л–є –Љ–Њ—Й–љ—Л–є. –Э–µ–≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є–є, –і–∞—О—Й–Є–є –њ—А–∞–≤–Њ –љ–∞ –±–Њ–ї—М—И—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М –≤—Б–µ–є –Ї–љ–Є–≥–µ. –Э–µ–≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ –Ї–Є–љ–µ–Љ–∞—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–љ—Л–є, –њ—А–Њ—Б—В–Њ –љ–µ—З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є. –Э–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П «–Ц–∞—В–≤–∞». –Э–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —В–∞–Ї –љ–µ—Б–њ—А–Њ—Б—В–∞: –Љ–Њ–ї, —З—В–Њ –њ–Њ—Б–µ–µ—И—М, —В–Њ –Є –њ–Њ–ґ–љ–µ—И—М. –Ь–Њ–ї, —А–∞—Б–њ–ї–∞—В–∞ –њ–Њ —Б—З–µ—В–∞–Љ. –Ь–Њ–ї, –і–Њ–Є–≥—А–∞–ї–Є—Б—М… –С—Г–і–љ–Є—З–љ–Њ –Є –љ–µ–ї–µ–њ–Њ –≤ –Њ–≥–љ–µ –њ–Њ–≥–Є–±–∞–µ—В —Б–µ–Љ—М—П… (—Ж–Є—В–∞—В–∞). –Э–Њ —Б—В—А–∞—И–љ–µ–є –≤—Б–µ–≥–Њ: –Њ–љ–Є –њ–Њ–≥–Є–±–∞—О—В — –Є –≤ —Б—Г–µ—В–µ —Б—Г–µ—В –і–∞–ґ–µ –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—О—В —Н—В–Њ–≥–Њ: –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –і–Њ–Љ–Њ—З–∞–і—Ж—Л –Љ–Є—А–љ–Њ –±–µ—Б–µ–і—Г—О—В, –њ—М—О—В —З–∞–є… –Ш –Є—Б—З–µ–Ј–∞—О—В. «–Ґ–Є—В–∞–љ–Є–Ї» –љ–∞—И–Є—Е –і–љ–µ–є. –Э–Њ –Ј–і–µ—Б—М –Њ–≥–Њ–љ—М… –≠—В–Њ –Ї–љ–Є–≥–∞ –Њ –љ–∞—Б, –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї —П. –Ь—Л –≤—Б–µ –њ—А–Њ–є–і–µ–Љ —З–µ—А–µ–Ј –У–µ–µ–љ–љ—Г –Ю–≥–љ–µ–љ–љ—Г—О, –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї —П. –Т–Њ —З—В–Њ –Љ—Л –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–Љ—Б—П, –њ–µ—А–µ–њ–ї–∞–≤–Є–≤—И–Є—Б—М –≤ —Н—В–Њ–Љ –±–µ–Ј—Г–Љ–љ–Њ–Љ –≥–Њ—А–љ–Є–ї–µ, –Ј–љ–∞–µ—В –Њ–і–Є–љ –С–Њ–≥. –Ш –≤–Њ—В —Н—В–Њ — —Б–∞–Љ–Њ–µ —В—А–µ–≤–Њ–ґ–љ–Њ–µ…
–Т—П—З–µ—Б–ї–∞–≤ –Т–Х–†–•–Ю–Т–°–Ъ–Ш–Щ –Ф–Ю–Э–Х–¶–Ъ
–Ф–Њ—А–Њ–≥–Њ–є –Т–Њ–ї–Њ–і—П! –Т—Б–µ–Љ –Љ–Њ—В–∞–ї—М–љ—Л–Љ —Ж–µ—Е–Њ–Љ –њ—А–Њ—З–Є—В–∞–ї–Є –Т–∞—И—Г –љ–Њ–≤—Г—О –Ї–љ–Є–≥—Г… –Т–µ–љ–µ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–Є–Љ–µ–љ—В—Л — —Б–Њ –≤–Ї—Г—Б–Њ–Љ —Б–і–µ–ї–∞–љ–Њ, –±–µ–Ј –і–Є–ї–µ—В–∞–љ—В—Б–Ї–Є—Е –Є–Ј–ї–Є—И–µ—Б—В–≤. –Я—А–Є—П—В–љ–Њ –і–µ—А–ґ–∞—В—М –≤ —А—Г–Ї–∞—Е. –Я–∞—Е–љ–µ—В —Г—Б–њ–µ—Е–Њ–Љ, –Є –љ–µ–Љ–∞–ї—Л–Љ. –£–і–∞—З–∞. –°–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–Є–є—Б—П —Д–∞–Ї—В. –Ы–Є—А–Є–Ј–Љ –Є–Ј —В–µ–±—П –љ–µ –≤—Л—В—А–∞–≤–Є—В—М — –Є –Є–љ—В–Њ–љ–∞—Ж–Є—О. –Э–µ —Б–њ—Г—В–∞–µ—И—М –љ–Є —Б —З–µ–Љ –љ–Є —Н—В–Њ—В –±–Њ–є–Ї–Є–є –≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–Ї, –љ–Є —Н—В–Њ—В –≤—Б–Ї—А–Є–Ї-–≤–Ј–≤–Є–Ј–≥ (–Ј–∞–≤–Њ–є, –≥–Њ–≤–Њ—А—П –њ–Њ—Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А–љ–Њ–Љ—Г), –љ–Є —Н—В—Г –і—Л–Љ–љ—Г—О –≥–Њ—А–µ—З—М — –≤ —В–≤–Њ–µ–є –њ—А–Њ–Ј–µ –Ї—В–Њ-—В–Њ –≤—Б—С –≤—А–µ–Љ—П –ґ–ґ–µ—В –Њ—Б–µ–љ–љ–Є–µ –ї–Є—Б—В—М—П, —Б–≥—А–µ–±–∞–µ—В —Б–µ–±–µ –Є –ґ–ґ–µ—В, –Љ—Г–і–Є–ї–∞. –°—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П «–Ѓ–ї–∞» –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤—Л–њ—Г—Б—В–Є—В—М –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–Њ–є — —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж —Н—В–∞–Ї –љ–∞ 320: —З—В–Њ–±—Л –Њ—З–µ–љ—М –±–µ–ї—Л–µ –ї–Є—Б—В—Л, –Є –≤ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А–µ —В–µ–Ї—Б—В –±—Л–ї –±—Л –љ–∞ —А–∞–Ј–љ—Л—Е —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж–∞—Е. –Ґ–∞–Ї –Є –≤–Є–ґ—Г —З–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–є, –Њ–±—Б—Г–ґ–і–∞—О—Й–Є—Е: «–£ —В–µ–±—П –љ–∞ –Ї–∞–Ї–Њ–є?» — «–Э–∞ 17-–є! –Р —Г —В–µ–±—П?» — «–£ –Љ–µ–љ—П –љ–∞ 301-–є!» –У–µ–љ–Є–∞–ї—М–љ–Њ –Є, –±–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ, — —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤–Њ. –Ы—Г—З—И–µ–µ –Є–Ј —В–≤–Њ–Є—Е —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —П –Ј–љ–∞—О (–Ї –љ–µ–Љ—Г —В—Л –њ–Њ-–њ–ї–∞—Б—В—Г–љ—Б–Ї–Є –њ–Њ–і–±–Є—А–∞–ї—Б—П –≤ «–І–∞—Б—В–љ–Њ–Љ —Б–µ–Ї—В–Њ—А–µ»). –С–Њ–ї—М—И–Њ–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є–µ –≤ –і–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є —Б—В–Є—Е–∞—Е (—Б–Њ–±—Л—В–Є–µ –≤ –і–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В—М —Б—В–Є—Е–Њ–≤? — –њ–Њ—З—В–Є –Ї–∞–Ї «—З–∞—Б–Њ–≤»). –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –≤—Б–µ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–љ—Л–µ –≤—Б—В–∞–≤–Ї–Є — –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ—Л–µ. –£–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ –Њ—В —З—В–µ–љ–Є—П — –±—Л—Б—В—А–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ–Љ–Њ–µ: plug&play. –Я—А–Њ—З–Є—В–∞–ї –Ј–∞–њ–Њ–µ–Љ. –І—В–Њ –µ—Й–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М —В–µ–±–µ? –Ъ –Љ–Њ–Є–Љ –њ–Њ—Е–≤–∞–ї–∞–Љ —В—Л –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—И—М—Б—П —Б–Ї–µ–њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є, –љ–Њ —Н—В–Є –њ—А–Є–Љ–Є —Б —А–∞—Б–њ–∞—Е–љ—Г—В–Њ–є –≥—А—Г–і—М—О, —Е–Њ—В—П –Є –њ–Њ—Б—В–∞—А–∞–є—Б—П –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В—Г–і–Є—В—М—Б—П: —Н–њ–Є–і–µ–Љ–Є—П –љ–∞ –і–≤–Њ—А–µ.
–°—В–Є—Е–Є, –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ, —Е–Њ—А–Њ—И–Є –≤—Б–µ («–Т–µ–ї–Њ—Б–Є–њ–µ–і», –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –ї—Г—З—И–µ, —З–µ–Љ «–Я–Њ—Б–µ–ї–Њ–Ї»), –∞ –≤–Њ—В «–Ѓ–ї–∞» — –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –Р—А—Б–µ–љ–Є–є –Ґ–∞—А–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Є –†—Г–±—Ж–Њ–≤ — —В–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М! — –љ–µ—А–≤–љ–Њ –Ї—Г—А—П—В –≤ —Г–≥–ї—Г. –°–Ї–Њ—А–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –Њ–љ–Њ –Њ—Б—В–∞–љ–µ—В—Б—П –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—З–µ–љ–љ—Л–Љ — –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ–Љ — –Є —Н—В–Њ –±—Г–і–µ—В –њ—А—П–Љ—Л–Љ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –µ–≥–Њ –≥–µ–љ–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Ї–∞–Ї — –љ–µ —З–Є—В–∞—В–µ–ї—О –∞–і—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ–Њ, –∞ —Б–∞–Љ –Ј–љ–∞–µ—И—М –Ъ–Њ–Љ—Г. –Ґ–µ–±—П –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї–Њ —Н—В–Њ —В—П–≥–Њ—В–µ–љ–Є–µ –Ф—Г—Е–∞ — –љ–∞—И–Є —А–Њ–≤–µ—Б–љ–Є–Ї–Є, –Ј–∞—З—Г—П–≤ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В, —Г—Е–Њ–і—П—В –≤ —В–µ—Е–љ–Є–Ї—Г, –њ–Њ—Б—В—Г–Ї–Є–≤–∞—П –Ї–Њ—Б—В—Л–ї–Є–Ї–∞–Љ–Є, –∞ —В—Л –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ—И—М —А–∞–Ј–Љ–∞—В—Л–≤–∞–љ–Є–µ —Н—В–Є—Е –њ–µ–ї–µ–љ –Ы–∞–Ј–∞—А—П –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б—И–µ–≥–Њ. –≠—В–Њ-—В–Њ –Є –Ј–і–Њ—А–Њ–≤–Њ. –≠—В–Њ-—В–Њ –љ–∞–њ–Њ–ї–љ—П–µ—В –Ї–љ–Є–ґ–Ї—Г –і–Њ –Ї—А–∞–µ–≤ — –Є –Њ–±–ї–Є–≤–∞–µ—В —З–Є—В–∞—В–µ–ї—П –њ–µ–є–Ј–∞–ґ–µ–Љ, –Љ—Л—Б–ї—М—О, –і–Є–∞–ї–Њ–≥–Њ–Љ, –∞–±—Б—Г—А–і–љ–Њ-–њ–∞—А–∞–і–Њ–Ї—Б–∞–ї—М–љ–Њ–є –≤—А–µ–Ј–Ї–Њ–є –Є–Ј —Н–љ—Ж–Є–Ї–ї–Њ–њ–µ–і–Є–Є, –Ї–∞–Ї–Њ–є-–љ–Є–±—Г–і—М –≥–Њ–≥–Њ–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ј–∞–≥–Њ–≥—Г–ї–Є–љ–Њ–є. –Ъ—Б—В–∞—В–Є, –њ—А–Њ –њ—В–Є—З–Ї—Г —Б –њ—Г—Е–Њ–Љ –≤ –љ–Њ—Б—Г. –Ц–µ–љ–∞ —З–Є—В–∞–ї–∞, —А–ґ–∞–ї–∞ –Є —Ж–Є—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞. –†–µ–±–µ–љ–Њ–Ї –њ—А–Њ—Б–µ–Ї —Н—В–Њ –і–µ–ї–Њ –Є —Г—В—А–Њ–Љ –≥–Њ–љ—П–ї—Б—П –Ј–∞ –Ґ–∞—В—М—П–љ–Њ–є —Б –Ї–љ–Є–ґ–Ї–Њ–є –Є –Њ—А–∞–ї: «–Ь–∞–Љ–∞, —З–Є—В–∞–є –њ—А–Њ –њ—Г—И–Њ–Ї –≤ –љ–Њ—Б—Г!» — –≤ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ, –љ–µ –µ–є —З–Є—В–∞–є, –∞ —Б–µ–±–µ —З–Є—В–∞–є, –њ–Њ–ї—Г—З–∞–є, –Љ–Њ–ї, —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ — —В—Л –ґ–µ —В–∞–Ї —Б–Љ–µ—П–ї–∞—Б—М –≤—З–µ—А–∞… –Т–Њ–Њ–±—Й–µ —З–µ—А–µ–Ј —Б–Љ–µ—Е (–∞ —З–∞—Й–µ —З–µ—А–µ–Ј —Г–ї—Л–±–Ї—Г) –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П –Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ. –Ъ–∞–Ї —В—Л —Г–Љ–µ–µ—И—М –Є–Ј–Љ–µ–љ—П—В—М –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ–Љ, —В–∞–Ї –Є –њ—А–Њ–Ј–∞ —В–≤–Њ—П… –Ґ–µ–њ–µ—А—М —А—П–і –њ–Њ–ї–Ј—Г—З–Є—Е –Ј–∞–Љ–µ—В–Њ–Ї.
–Ю—З–µ–љ—М —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ
–Э–µ –Ј–љ–∞—О, –≤ —З–µ–Љ —Н—В–∞ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, –љ–Њ –≤ –Ї–љ–Є–≥–µ –Њ–љ–∞ –µ—Б—В—М. –Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М — –≤ —В—А–µ–≤–Њ–≥–µ? –С–Њ—О—Б—М —В—А–µ–≤–Њ–≥–Є. –У–і–µ –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤ —В—А–µ–≤–Њ–≥–µ –њ–Њ–Ї–Њ—П –Є—Б–Ї–∞—В—М?.. –Ф–∞–є—В–µ, –і–∞–є—В–µ –Љ–љ–µ —Б–Ї–Њ—А–µ–є –Э–∞–≥–Є–±–Є–љ–∞ — –Љ–Њ—А–і—Г –Ї–љ–Є–ґ–Ї–Њ–є –љ–∞–Ї—А–Њ—О, –њ–µ—А–µ—Б–Є–ґ—Г —В—А–µ–≤–Њ–≥—Г, –њ–µ—А–µ–і—А–µ–Љ–ї—О –µ–µ, –Ї–∞–Ї —А—П–±—М —А–µ—З–љ—Г—О…
–Ґ–µ—В—П –Ь–Њ—В—П –£–Ї—А–∞–Є–љ—Б–Ї–∞—П —В–µ—В—П — —Б –љ–∞—В—Г—А—Л; —А–µ—З—М — —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П, –±–µ–Ј –ї–µ—Б—Б–Є—А–Њ–≤–Ї–Є. –Х–≤—Д–Њ–љ—Ц—П –Ї—Г–і–Є—Б—М —В–µ—Ф.
–Х–≤—А–µ–є—Б–Ї–Є–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Ю «—Б—О–ґ–µ—В–љ–Њ-—Д–∞–±—Г–ї—М–љ–Њ–Љ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ». –†–Њ–Љ–∞–љ–∞ –≤ –љ–Њ–≤–µ–ї–ї–∞—Е —П –љ–µ —Г–≤–Є–і–µ–ї. –Х—Б—В—М —А—П–і –±–ї–µ—Б—В—П—Й–Є—Е –љ–Њ–≤–µ–ї–ї, —Г–і–∞—З–љ–Њ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л—Е. –Ш –њ–Њ—З–µ–Љ—Г —В–µ–±—П —Н—В–Њ «—Ж–µ–ї–Њ–µ» —В–∞–Ї –≤–Њ–ї–љ—Г–µ—В? (–≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–Љ. –Ј–∞–≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–Ї). –Ъ–љ–Є–≥–∞ — –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ–∞, –і–Њ–Ї–∞–Ј—Г–µ–Љ–∞, –∞ «—Ж–µ–ї–Њ–µ» –њ—А–Є–і—Г–Љ–∞–ї–Є –µ–≤—А–µ–Є, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ —Б–ї–µ—Б–∞—А–Є—В—М.
–Я—А–Њ —Н—В—Г, –Ї–∞–Ї –µ–µ… —Н–Ї-–ї–µ–Ї… —Н–Ї-–ї–µ–Ї… —Н–Ї–ї–µ–Ї—В–Є–Ї—Г! –С–Њ–ї—М—И–Њ–є –њ—А–Є–≤–µ—В –Є–Ј –°–∞—И–µ—Б–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–≤—Б–Ї–∞. –Ь—П—В–Њ–µ –њ–Є—Б—М–Љ–µ—Ж–Њ –Є–Ј –Ф–Њ–±—Л—З–Є–љ–Њ. –Ґ–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –Њ—В –≥–Є–њ–њ–Њ–њ–Њ—В–∞–Љ–∞. –Я–Њ–≤–µ—Б—В–Ї–∞ –≤ —Б—Г–і –Њ—В —А–∞–љ–љ–µ–≥–Њ –†–∞—Д–µ–µ–љ–Ї–Њ (–µ–≥–Њ –ґ–µ –Є –Љ–Њ–љ–∞—Б–Є –њ—А–Є–µ–Љ–ї—О—В).
–Т –Ј–Њ–Њ–њ–∞—А–Ї–µ –Ъ–∞–ґ—Г—В—Б—П —Б–∞–Љ—Л–Љ–Є —П—А–Ї–Є–Љ–Є –Є –ґ–Є–≤—Л–Љ–Є — –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞—О—В —В–Њ —В—Г—В, —В–Њ —В–∞–Љ: –Њ—В –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –і–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–є —Б–Њ–±–∞—З–Ї–Є –і–Њ –Є–Ј—А–∞–Є–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–µ—А–±–ї—О–і–∞, –Њ–Ї–ї–µ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–≤–µ—В–Њ–Њ—В—А–∞–ґ–∞—О—Й–µ–є –ї–µ–љ—В–Њ–є.
? «–Ъ—А–∞—В–Ї–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–Њ–є –њ—А–Њ—Й–∞–љ–Є–є» —В—Л –Ј–∞–і–∞–ї –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Є –љ–µ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ. «–Э–µ–≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–љ—Л–Љ–Є –≥–ї–∞–≥–Њ–ї–∞–Љ–Є» —В—Л –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї –љ–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б, –∞ –љ–∞ –Ї–∞–Ї–Њ–є — –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ.
–Ю–±—Й–µ—З–µ–ї–Њ–≤–µ—З. —Ж–µ–љ–љ. –њ—А–Њ–Є–Ј–≤. –Я—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В.
–®–Ї—Г—А–љ—Л–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Ь–µ—Б—В–Њ «–Э–µ–≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–љ—Л—Е –≥–ї–∞–≥–Њ–ї–Њ–≤» — –љ–∞ –Ї–љ–Є–ґ–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Ї–µ –Ј–љ–∞—В–Њ–Ї–∞, –∞ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —Б—Г–і—М–±–∞ –µ–µ — –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А—Б–љ–∞—П. –Ш—Б–Ї—А–µ–љ–љ–µ –ґ–µ–ї–∞—О…
* * *
…–Р —В—Л, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –≤—Б—С —А–∞–≤–љ–Њ —Е–Њ—В–µ–ї –њ—А–Њ «—Ж–µ–ї–Њ–µ», –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –љ–µ –±—Л–≤–∞–µ—В — –Њ–љ–Њ —Г –С–Њ–≥–∞. –Я–Њ–Ј–і—А–∞–≤–ї—П—О —Б —Е–Њ—А–Њ—И–µ–є –Ї–љ–Є–ґ–Ї–Њ–є. –Ф–µ—А–ґ–Є—Б—М, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ: h`toi,masaj evnw,pio,n mou tra,pezan evx evnanti,aj tw/n qlibo,ntwn me evli,panaj evn evlai,w| th.n kefalh,n mou kai. to. poth,rio,n sou mequ,skon w`j kra,tiston (YALMOI 22,5).
–Ю–ї–µ–≥ –Ч–Р–Т–ѓ–Ч–Ъ–Ш–Э –Ф–Ю–Э–Х–¶–Ъ
–Т–Њ–ї–Њ–і—П, –њ—А–Є–≤–µ—В! –Ш —Е–Њ—В—П —П —В–µ–±—П —Г–ґ–µ –њ–Њ–Ј–і—А–∞–≤–ї—П–ї–∞ –њ–Њ —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ—Г —Б –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б –љ—Л–Љ —А–Њ–Љ–∞–љ–Њ–Љ, –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П—О: —В—Л –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є —А–Њ–Љ–∞–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–µ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –њ–Њ—В–µ—А—П—В—М—Б—П —Б—А–µ–і–Є –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–∞ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є –љ–∞–њ–µ—З–∞—В–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є. –Ф–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ —В–Њ–Љ—Г —Б–ї—Г–ґ–Є—В –Є —В–Њ, —З—В–Њ —В—Л –њ–Њ–њ–∞–ї –≤ –ї–Њ–љ–≥-–ї–Є—Б—В –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –њ—А–µ–Љ–Є–Є. –ѓ —А–∞–і–∞, —З—В–Њ —Б—А–µ–і–Є —З–ї–µ–љ–Њ–≤ –ґ—О—А–Є, –±—Л–ї–Є –ї—О–і–Є, —Г–Љ–µ—О—Й–Є–µ —З–Є—В–∞—В—М. –Ф–∞–ї–µ–µ –µ–≥–Њ —Б—Г–і—М–±–∞ –±—Г–і–µ—В –Ј–∞–≤–Є—Б–µ—В—М –Є –Њ—В —В–≤–Њ–Є—Е —Г—Б–Є–ї–Є–є. –•–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –±—Л, —З—В–Њ–±—Л –µ–≥–Њ –љ–∞–њ–µ—З–∞—В–∞–ї–Є –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ —В–Є—А–∞–ґ–Њ–Љ –њ–Њ–±–Њ–ї–µ–µ, —З–µ–Љ —Н—В–Њ—В.
* * *
–Ш –Ї—В–Њ –±—Л —В–∞–Љ —З–µ–≥–Њ –љ–Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї (–Ч–∞–≤—П–Ј–Ї–Є–љ) — —Н—В–Њ —В–∞–Ї–Є —А–Њ–Љ–∞–љ, –љ–∞ –Љ–Њ–є –≤–Ј–≥–ї—П–і. –Х—Б—В—М —Б–Ї–≤–Њ–Ј–љ–Њ–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ, –њ—А–Њ—Е–Њ–і—П—Й–Є–µ —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М –і—Г—И—Г –∞–≤—В–Њ—А–∞ –Є —З–Є—В–∞—В–µ–ї—П –≥–µ—А–Њ–Є, –Є –і–∞–ґ–µ, –Є–Ј–≤–Є–љ–Є—В–µ, –Ј–∞–≤—П–Ј–Ї–∞, –Ї—Г–ї—М–Љ–Є–љ–∞—Ж–Є—П –Є —А–∞–Ј–≤—П–Ј–Ї–∞. –Х—Б—В—М —Б—В–Є–ї—М –Є –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М, –∞–≤—В–Њ—А—Б–Ї–Є–µ –њ—А–Є–µ–Љ—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —В–Њ–љ–Ї–Њ –≤–њ–ї–µ—В–∞—О—В—Б—П –≤ —В–Ї–∞–љ—М —В–µ–Ї—Б—В–∞. –Ш –і–∞–ґ–µ —Б–ї–Њ–≤–∞—А–љ—Л–µ –≤–Ї—А–∞–њ–ї–µ–љ–Є—П (–љ–µ —А—Г–≥–∞–є –Љ–µ–љ—П –Ј–∞ —Н—В–Њ —Б–ї–Њ–≤–Њ, —П –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –±–Њ–ї–µ–µ, —З–µ–Љ –≤–Ї—А–∞–њ–ї–µ–љ–Є—П — –Њ–љ–Є –Є –µ—Б—В—М —Б–Ї–≤–Њ–Ј–љ–Њ–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –Љ–µ—И–∞—О—В, –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—О—В, –љ–Њ –±–µ–Ј –љ–Є—Е, –Ї–∞–Ї –±–µ–Ј –≤–Ї—А–∞–њ–ї–µ–љ–Є–є –љ–∞ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є—Е –і–µ–љ—М–≥–∞—Е, –љ–µ –Њ–±–Њ–є—В–Є—Б—М. –Т—Б–µ —Б—А–Њ—Б–ї–Њ—Б—М. –Ш —Б—В–Є—Е–Є –≤—Б–µ, –Ї–∞–Ї –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–∞—П –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞ –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Ю—З–µ–љ—М —Е–Њ—А–Њ—И–Њ, —З—В–Њ —В—Л –Є—Е –≤–≤–µ–ї –≤ —А–Њ–Љ–∞–љ.
–Э–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П —А–∞–Ј–і–µ–ї–Њ–≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ. –Т—Б–µ –Ї –Љ–µ—Б—В—Г. –Ь–ї–∞–і–µ–љ–µ—Ж –њ—Л–ї–Ї–Є–є –Є –ґ–Є–≤–Њ–є (–Ї—Г–ї—М–Љ–Є–љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є —А–∞–Ј–і–µ–ї) –Є —В–≤–Њ–є –Љ–ї–∞–і–µ–љ–µ—Ж, —Е–Њ—В—М –Є –љ–µ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–µ–љ — –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –ґ–Є–≤—Л–Љ –љ–∞–≤–µ–Ї–Є.
–•–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Њ –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –љ–Њ–≤–µ–ї–ї–µ, –љ–Њ —Н—В–Њ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ. –Ю–љ–Є –≤—Б–µ —Е–Њ—А–Њ—И–Є –њ–Њ-—Б–≤–Њ–µ–Љ—Г, –њ—А–Њ—Е–Њ–і–љ—Л—Е –љ–µ—В. –Ю–љ–Є –≤—Б–µ — —Б–≤—П–Ј—М —А–Њ–Љ–∞–љ–∞ —Б –ґ–Є–Ј–љ—М—О. –Х—Б–ї–Є —П –≤–і—А—Г–≥ –Њ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –љ–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞, –∞ –Њ–љ–∞ –і–ї—П —В–µ–±—П –≤–∞–ґ–љ–∞, –љ–∞–њ–Є—И–Є, — —П —Б–Ї–∞–ґ—Г.
–Ш –µ—Й–µ. –ѓ–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Г–ї—М—В—Д–Є–ї—М–Љ–∞ –Њ —В–Њ—В–Њ—А–Њ —П –љ–µ –≤–Є–і–µ–ї–∞, —В–∞–Ї —З—В–Њ –≤ –Љ–Њ–µ–Љ –≤–Њ—Б–њ—А–Є—П—В–Є–Є –Њ–љ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ—В–њ–µ—З–∞—В—Л–≤–∞—В—М—Б—П –њ–Њ-—Б–≤–Њ–µ–Љ—Г.
–І–∞—Б—В—М 1. –Я—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і—М –≤ —Б—В–Є–ї–µ new age
–°–Њ–ї–і–∞—В—Б–Ї–Є–є –і–ґ–∞–Ј
–Ю—З–µ–љ—М –њ–Њ–љ—А–∞–≤–Є–ї–Њ—Б—М –≤—Б–µ. –Ш–љ—В–Њ–љ–∞—Ж–Є—П –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ-–±–Є–±–ї–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П, –њ—А–Є–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ–∞—П –Є—А–Њ–љ–Є–µ–є, –≥–і–µ —Б–≥—Г—Й–µ–љ–љ–∞—П –±–Њ–ї—М –Є –Є—А–Њ–љ–Є—П, —Б–Љ–µ—И–Є–≤–∞—П—Б—М, –і–∞—О—В –Њ—Б–Њ–±—Г—О —В—А–Њ–≥–∞—В–µ–ї—М–љ—Г—О —В–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М. –Т —Н—В–Њ–Љ-—В–Њ –Є —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М — —Г–Љ–µ–љ–Є–µ –±—А–∞—В—М –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–Њ—В –і–Є—Б—Б–Њ–љ–∞–љ—Б–љ–Њ –Є –≤—Л–њ–ї–µ—Б–Ї–Є–≤–∞—В—М —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≥–∞—А–Љ–Њ–љ–Є—З–љ—Г—О –Љ–µ–ї–Њ–і–Є—О –і—Г—И–Є.
–Ч–љ–∞—З–Є—В, –µ—Б—В—М –µ—Й–µ —Б–Њ–ї–і–∞—В –≤ —З–∞—Б—В–Є. (–Ч–љ–∞—З–Є—В, –µ—Б—В—М –µ—Й–µ —Б–Є–ї–∞ –Є —Г–і–∞–ї—М –±–Њ–≥–∞—В—Л—А—Б–Ї–∞—П — –љ–µ–Є—Б–њ–Є—В–∞—П, –љ–µ–Є–Ј–±—Л—В–∞—П, –љ–µ—Г–Љ–µ—А—В–≤–Є–Љ–∞—П.) –§–Њ—А—В–µ! –Ъ–ї–∞—Б—Б–љ–Њ! –Р–њ–Њ–Ї–∞–ї–Є–њ—Б–Є—Б –≤ –Љ–∞–ї–Њ–Љ –љ–µ—Г—Б—В–∞–≤–љ–Њ–Љ –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–µ — –≥–µ–љ–Є–∞–ї—М–љ–Њ!
–Ґ–Њ—В–Њ—А–Њ 1
(–Ь—Л—Б–ї–Є –і–Њ –њ—А–Њ—З—В–µ–љ–Є—П —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ —В–Њ—В–Њ—А–Њ) –Ю—З–µ–љ—М —Б–Є–ї—М–љ–∞—П –љ–Њ–≤–µ–ї–ї–∞. –Ґ–Њ—В–Њ—А–Њ, –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л–є –њ—Г—В–µ–Љ —Б–Ї—А–µ—Й–Є–≤–∞–љ–Є—П —Е–Њ—А–Њ—И–µ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –Є –њ–ї–Њ—Е–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞. –Ґ–Њ—В–Њ—А–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤–љ—Г—В—А–Є. –Х—Б–ї–Є —В—Л –Є —Б–∞–Љ —Б–ї–µ–≥–Ї–∞ —В–Њ—В–Њ—А–Њ (–љ–µ–Љ–љ–Њ–ґ–Ї–Њ —В–Њ–≥–Њ…) (–Є –љ–µ–Љ–љ–Њ–ґ–Ї–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ…) (–≤—Б–µ –Љ—Л –љ–µ–Љ–љ–Њ–ґ–Ї–Њ –ї–Њ—И–∞–і–Є… –Є —В. –і.) –Ґ–Њ—В–Њ—А–Њ, –Ї–∞–Ї –љ–∞—И–µ —Н—Д–Є—А–љ–Њ–µ —В–µ–ї–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Б –љ–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –і–ї—П –і–Њ–±—А–∞ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є—А—Г–µ—В –љ–∞—И–µ –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ, –љ–Њ –µ—Б—В—М –Є –љ–∞—И–µ –Њ–±—Й–µ–µ –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ —В–Њ—В–Њ—А–Њ, –Ї–∞–Ї –Љ–µ–љ—В–∞–ї–Є—В–µ—В. –Ю —Д–∞—И–Є—Б—В–∞—Е –Ї—А—Г—В–Њ –Є, –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ, –≤ —В–Њ—З–Ї—Г. –Ю—В —Д–∞—И–Є—Б—В–Њ–≤ –љ–µ —Б–њ—А—П—З–µ—И—М—Б—П, —Д–∞—И–Є—Б—В—Л —Б—А–µ–і–Є –љ–∞—Б, –Є –Њ–љ–Є –љ–∞—Б —Г—З–∞—В –ґ–Є—В—М, –Њ–љ–Є –љ–∞–Љ –љ–∞–≤—П–Ј—Л–≤–∞—О—В —Д–Њ—А–Љ—Г –Њ–і–µ–ґ–і—Л, —Д–Њ—А–Љ—Г —В–µ–ї–∞ –Є –њ–Њ–і–±–Є—А–∞—О—В—Б—П –Ї —Д–Њ—А–Љ–µ –і—Г—И–Є, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —Г–ґ–µ –і–Њ–±—А–∞–ї–Є—Б—М. –Р —В–Њ—В–Њ—А–Њ –≤–љ–µ –љ–∞—Б –Є –≤ –љ–∞—Б —Б–∞–Љ –њ–Њ —Б–µ–±–µ (–±–µ–Ј –љ–∞—И–µ–≥–Њ «—П») — –Љ—П–≥–Ї–Є–є, –Ї—А—Г–≥–ї—Л–є, –і–Њ–±—А—Л–є –Є –њ–Њ–Ї–ї–∞–і–Є—Б—В—Л–є. –≠—В–Њ —В–Њ, —З—В–Њ –њ—А–Њ—З–Є—В–∞–ї–Њ—Б—М.
–°–∞—Ж—Г–Ї–Є
–Ю—З–µ–љ—М —В—А–Њ–≥–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤—Л—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–∞—П —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—А—Г—З–љ–Њ –љ–∞ –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А–∞—Е —Г–Ї—А–∞–Є–љ—Б–Ї–Є—Е —Б—В–µ–њ–µ–є –ѓ–њ–Њ–љ–Є—П, –Є –Њ–љ–∞ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–∞—П, –Ї–∞–Ї –њ–µ—А–≤—Л–є —Б–µ–Ї—Б—Г–∞–ї—М–љ—Л–є –Њ–њ—Л—В. –Т—Б–µ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ, –љ–Њ –Љ–µ—И–∞–µ—В —Д—А–∞–Ј–∞ «–°–ї–∞–≤–∞ –∞–ї–ї–∞—Е—Г!» –Ю–љ–∞ –≤—Л–±—А–∞—Б—Л–≤–∞–µ—В –Љ–µ–љ—П –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –Є –Є–Ј –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є –Є –Є–Ј –£–Ї—А–∞–Є–љ—Л. –Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, —П –Є –љ–µ –њ—А–∞–≤–∞, –Є —В—Л –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –Є –і–Њ–±–Є–≤–∞–ї—Б—П?
–Ь—Н–є
–Ч–і–Њ—А–Њ–≤–Њ. –Ь—Н–є — –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –і–≤–Є–ґ–µ—В—Б—П –Ј–∞ —В–Њ–±–Њ–є, –Ї–∞–Ї –Њ–±–ї–∞–Ї–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –љ–µ –і–Њ—Б—В–∞—В—М, —З—В–Њ–± –њ–Њ—В—А–Њ–≥–∞—В—М –Є –њ—А–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –Ј–∞–љ–Њ–≤–Њ, –љ–Њ –Є –љ–µ –њ–Њ–Ї–Є–і–∞—О—Й–µ–µ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞, –Ї–∞–Ї –љ–µ–±–Њ. –Р –Ј–∞ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞–Љ–Є –Ь—Н–є — –Ї–Њ–ї–Њ–і–µ—Ж. –Я—А–Њ –Ї–Њ–ї–Њ–і–µ—Ж –≤–Њ–Њ–±—Й–µ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, –Њ—З–µ–љ—М —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–Њ –і–ї—П –њ–µ—А–≤–Њ–є –ї—О–±–≤–Є.
–°–Њ–ї–і–∞—В-–Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є—В–µ–ї—М
–Э—Г —В–µ–±—П –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ–Ј–і—А–∞–≤–Є—В—М — —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—В—П —В—Л —Г–ґ–µ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї. –Я–µ—А–µ—Е–Њ–і –Њ—В —Б–Њ–ї–і–∞—В–∞ –ґ–Є–≤–Њ–≥–Њ –Ї —Б–Њ–ї–і–∞—В—Г –Љ–µ—А—В–≤–Њ–Љ—Г –Є–ї–Є –≤–µ—З–љ–Њ –ґ–Є–≤–Њ–Љ—Г (–Њ—В –і–ґ–∞–Ј–∞ –Ї –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є—В–µ–ї—О) –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–∞—В–Є–≤–љ–Њ –љ–µ–њ–ї–Њ—Е–Њ–є. –Т –Њ–і–љ–Њ–Љ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Њ–Љ —Н–њ–Є–Ј–Њ–і–µ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—Б—В–Є–ї–Є—Б—М –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Н–њ–Њ—Е. –Р –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞-—В–Њ –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –њ–Њ–і–љ—П—В–∞ –≥–ї–Њ–±–∞–ї—М–љ–∞—П, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –љ–Є —Б–Љ–µ—И–љ–Њ. –Ъ—В–Њ –Њ—В–≤–µ—В–Є—В –љ–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л: –Ј–∞ –Ї–∞–Ї—Г—О —Б—Г–і—М–±—Г-—В–Њ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ? –Ш –Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В —З–µ–≥–Њ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–∞—В—М –љ–∞–і–Њ? –Р–±—Б—Г—А–і–Є–Ј–Љ —И–Є–Ї–∞—А–љ—Л–є. –Ш –Ј–і–µ—Б—М –Љ–љ–µ –≤–Є–і–Є—В- —Б—П, –љ–µ —Б–Љ–µ–є—Б—П, –Ј–∞–≤—П–Ј–Ї–∞. –Р –≥–Њ—Б–њ–Њ–і–Є–љ –Ґ–∞–љ–∞–Ї–Њ –Є–Ј –Ї–ї–∞–љ–∞ –Ъ–∞–≤–∞–±–∞—Б–Є –Ј–≤—Г—З–Є—В –Ї–∞–Ї —А—Г–≥–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ. –Р—Е —В—Л, —В–∞–љ–∞–Ї–Њ –љ–µ–і–Њ–±–Є—В—Л–є.
–Ґ–Њ—В–Њ—А–Њ 2
–Ъ–∞–Ї–Њ–є –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є —В–Њ—В–Њ—А–Є–Ї —Г —В–µ–±—П, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —Б–Љ–µ—Б—М –Т–Є–љ–љ–Є-–Я—Г—Е–∞ –Є –Т–Њ–ї–Њ—И–Є–љ–∞. –ѓ –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ–µ—А–≤—Л–є —А–∞–Ј —З–Є—В–∞–ї–∞, –≤–Є–Ј—Г–∞–ї—М–љ–Њ –µ–≥–Њ —В–∞–Ї–Є–Љ –Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞. –У–µ–љ–Є–∞–ї—М–љ–Њ. –Ґ–Њ—В–Њ—А–Њ, –і–∞–ґ–µ –µ—Б–ї–Є –µ–≥–Њ –љ–µ –±—Г–і–µ—В —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ –≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є—Е –љ–Њ–≤–µ–ї–ї–∞—Е — –≤ —В–µ–Ї—Б—В–µ — –Њ–љ –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ –±—Г–і–µ—В –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≤ –љ–Є—Е — –≤–њ–µ—З–∞—В–∞–љ –≤ –Љ–Њ–Ј–≥ —З–Є—В–∞—В–µ–ї—П — —Н—В–Њ —Г–і–∞—З–∞!!!
–Ю—Д–Є—Б
–У–ї—Г–±–Њ–Ї–∞—П —В–Њ—Б–Ї–∞ –Є –Њ–і–Є–љ–Њ—З–µ—Б—В–≤–Њ, –љ–µ–њ—А–Є–Ї–∞—П–љ–љ–Њ—Б—В—М –Є –њ–Њ–Є—Б–Ї –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ –і–ї—П —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –ї—Г—З—И–µ–≥–Њ –±—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Б–µ–±—П –Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ј–∞–±—Л–≤—И–µ–Љ—Г –Њ —В–µ–±–µ –Љ–Є—А—Г. –≠—В–Њ —В–Њ, —З—В–Њ –њ—А–Њ—З–Є—В–∞–ї–Њ—Б—М.
–•–Њ—В–Є—А–Њ
–Т –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –Њ–Ї—А—Г–≥–µ –µ—Б—В—М —Б–≤–Њ–є –і—Г—А–∞—З–Њ–Ї, —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–Є–є—Б—П –љ–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж–µ –Љ–Є—А–∞, –Ї–∞–Ї —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї –Ј–∞–њ—А–µ–і–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є –Ї–∞–Ї–Є—Е-—В–Њ —В–∞–є–љ—Л—Е –Ј–љ–∞–љ–Є–є. –Ф–µ—В–Є –Ј–∞—З–∞—Б—В—Г—О –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Є –Є –њ—А–Є–Њ–±—Й–∞—О—В—Б—П –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г –љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ-—Б–≤–Њ–µ–Љ—Г, —З–∞—Й–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –љ–µ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ, –∞ —В–µ–ї–µ—Б–љ–Њ — –±—М—О—В. –Ш —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–µ, –Ї–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –Љ–∞–≥–љ–Є—В–Њ–Љ, —В—П–љ–µ—В –Ї —Н—В–Њ–є –≥—А–∞–љ–Є—Ж–µ, –Љ–Њ–≥—Г—В –њ–Њ-–і–Њ–±—А–Њ–Љ—Г –Њ–±—Й–∞—В—М—Б—П –Є —Б–Є–Љ–њ–∞—В–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —Е–Њ—В–Є—А–Њ. –Р–≤—В–Њ—А, —П –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О, –≤ –Є—Е —З–Є—Б–ї–µ, –Ї–∞–Ї, —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –Є –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ –µ–≥–Њ —З–Є—В–∞—В–µ–ї–Є.
–У–∞–є
–Ы—О–±–Њ–≤—М –њ–Њ–±–µ–ґ–і–∞–µ—В –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –і–Є—Б–≥–∞—А–Љ–Њ–љ–Є—З–љ–Њ—Б—В—М –Љ–Є—А–∞, –≤—Л–≤–Њ–і –Љ–Њ–є, –≤—А–Њ–і–µ –Ї–∞–Ї –±–∞–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М, –Є –≤—Б–µ –ґ–µ… –Њ—В —В–Њ–≥–Њ, –љ–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ—Л –≤ –ї—О–±–≤–Є —В–≤–Њ–Є –њ–∞–њ–∞ –Є –Љ–∞–Љ–∞, –Ј–∞–≤–Є—Б–Є—В, –Ї–Њ–≥–Њ —В—Л –Є –Ї—Г–і–∞ –≥–љ–∞—В—М –±—Г–і–µ—И—М — —Б—В–∞–і–Њ –Є–ї–Є –њ–∞—Б—В—Г—Е–Њ–≤. –Ч–Њ–ї–Њ—В–Њ–є —Д–∞–Ј–∞–љ –≤–Ј–ї–µ—В–∞–µ—В –≤ –Є–Ј—Г–Љ—А—Г–і–љ–Њ–µ –љ–µ–±–Њ — –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ–∞—П –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤–Ї–∞.
–Я—Г—В—М –Є–Ј –°–Є–љ–і–∞—П –≤ –•–∞–Ї–Њ–і–∞—В—Н
–°–Є–ї–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і—Г—Е–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –≤—Б—О –ѓ–њ–Њ–љ–Є—О —Б–і–µ–ї–∞—В—М –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є –Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ.
–Э–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞—П
–Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞—П –°–∞—Ж—Г–Ї–Є –Є –Ь—Н–є — –Њ–±—А–∞–Ј—Л –і–≤—Г—Е —В–Є–њ–Њ–≤ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ (–і–≤–∞ –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ), –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ –≤—Б–µ. –Ґ–Њ—В–Њ—А–Њ —В–Њ–ґ–µ –і—Г—А–∞—З–Њ–Ї, –Є –њ–ї–∞–љ–µ—В–∞ –ї—О–і–µ–є —В–Њ–ґ–µ –Ґ–Њ—В–Њ—А–Њ — —Н—В–Њ –Љ–Њ–Є –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є—П. –Ю—З–µ–љ—М —Б–Є–ї—М–љ–Њ –Є –Ї –Љ–µ—Б—В—Г –Њ–± –∞—А–Љ–Є–Є — –Ї–Њ–≥–Њ –Љ–љ–µ –Ј–∞—Й–Є—Й–∞—В—М —В–∞–Љ, –≥–і–µ –Є—Е (—А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є) –љ–µ—В? –Ф–∞ –Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ –і—А—Г–≥–Њ–µ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ.
–†–µ–і—М–Ї–∞
–°–Ї–∞–Ј–Ї–∞, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ–∞—П –Њ—В –і—Г—И–Є –Є –і–ї—П –і—Г—И–Є. –Т –Њ–±—Й–µ–Љ, –ґ–µ–љ–∞ (—Б–Є–Љ–≤–Њ–ї) –љ–∞–і–Њ–µ–ї–∞, –Ї–∞–Ї –≥–Њ—А—М–Ї–∞—П —А–µ–і—М–Ї–∞, –Ї–∞–Ї –µ–µ –љ–Є —Б–і–∞–±—А–Є–≤–∞–є, –Ї–∞–Ї –љ–Є –≤–Ј—А–∞—Й–Є–≤–∞–є –і–ї—П —Б–µ–±—П.
–Ь–Є—А –≤–Є–і–Є–Љ—Л–є –Є –љ–µ–≤–Є–і–Є–Љ—Л–є
–°–Є–ї—М–љ–∞—П –љ–Њ–≤–µ–ї–ї–∞. –Ь—Г—З–∞—Й–∞—П –љ–∞—Б –љ–µ–њ—А–µ—Е–Њ–і—П—Й–∞—П –±–Њ–ї—М-—Б–Њ–≤–µ—Б—В—М: –∞ –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ –ї–Є –Љ—Л –Ј–і–µ—Б—М, —З—В–Њ —В–µ–њ–µ—А—М –і–µ–ї–∞–µ–Љ, –Љ–Њ–ґ–µ—В, –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З–µ–≥–Њ –љ–µ –і–µ–ї–∞–µ–Љ.
–І–∞—Б—В—М 2. –Я—А–Њ—Б—В—Л–µ –і–µ–ї–∞
–°–∞–ї–∞—В –Є–Ј –Ї—А–∞–њ–Є–≤—Л
–•–Њ—А–Њ—И–Њ. –Ю—В–ґ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П 174 —А–∞–Ј–∞ –≤–Њ –Љ–ї–∞–і–µ–љ—З–µ—Б—В–≤–µ — —Н—В–Њ –Ј–∞–њ–∞—Б –њ—А–Њ—З–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞ –і–Њ–ї–≥–Є–µ –≥–Њ–і—Л. –Ц–Є–Ј–љ—М –Ї–∞–Ї –ї–Њ–≤–ї—П –њ—А–µ—Б–љ–Њ–≤–Њ–і–љ—Л—Е —А—Л–± –Э–µ–њ–ї–Њ—Е–∞—П –љ–Њ–≤–µ–ї–ї–∞, –љ–Њ –Ј–і–µ—Б—М, –Ї–∞–Ї –Љ–љ–µ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, —Г–њ–∞–ї —В–µ–Љ–њ–Њ—А–Є—В–Љ —А–Њ–Љ–∞–љ–∞. –Я–Њ—И–µ–ї —Б–њ–∞–і –і–Њ –ґ–µ–љ–Є—В—М–±—Л. –Т –Њ–±—Й–µ–Љ, –Ї–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ґ–µ–љ–Є–ї—Б—П, –≤—Б–µ —Б—А–∞–Ј—Г –љ–∞–ї–∞–і–Є–ї–Њ—Б—М — –њ–Њ—П–≤–Є–ї–∞—Б—М –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є—П.
–Ф—П–і—П
–Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ. –І—В–µ–љ–Є–µ —Б—В–Є—Е–Њ–≤ –≤ –±–∞—А–Њ–Ї–∞–Љ–µ—А–µ — —Н—В–Њ –Њ—З–µ–љ—М —В–Њ—З–љ–Њ –Њ –љ–∞—И–µ–Љ –Љ–Є—А–µ. –Х—Б—В—М –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–љ–Є–µ: —Д—А–∞–Ј–∞ «–і–≤–Њ–є–Ї–∞-—В—А–Њ–є–Ї–∞ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–є» –љ–µ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–∞ –і–ї—П —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞, –Љ–µ–љ—П —Н—В–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞–њ—А—П–≥–ї–Њ.
–Ы–Њ—И–∞–і–Є–љ–∞—П –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞
–Ю—З–µ–љ—М —Е–Њ—А–Њ—И–Њ!!! –Ы–Њ—И–∞–і–Є–љ–∞—П –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞, –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞—О—Й–∞—П—Б—П –≤ —Г—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж—Г —Д–Є–Ј–Є–Ї–Є — –≥–µ–љ–Є–∞–ї—М–љ–∞—П —Д–∞–љ—В–∞—Б–Љ–∞–≥–Њ—А–Є—П, –∞ —Д—А–∞–Ј–∞ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ. –Ъ–Њ–≥–і–∞ «—Г–ґ–∞—Б –≤–љ—Г—В—А–Є –Њ—Б–µ–љ–Є –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ—А–Њ–±—А–∞—В—М—Б—П –≤ –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Г» — –Ј–∞—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞—О—Й–µ!
–Ф–µ—Д–µ–Ї—В –Љ–∞—Б—Б
–Я—А–Њ—Б—В–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ, –≤—Б–µ –≥–∞—А–Љ–Њ–љ–Є—З–љ–Њ.
–§–∞–Ј–∞–љ
–Ф–∞, –Т–Њ–≤–∞, —Н—В–Њ –њ—А–Њ–Ј—А–µ–љ–Є–µ, –њ—А—Л—Й–Є–Ї–Є — —А–µ–∞–ї—М–љ—Л, –∞ –ї—О–і–Є — –љ–µ—В, –Љ–∞–ї–Њ —В–Њ–≥–Њ, –њ—А—Л—Й–Є–Ї–Є –њ—А–∞–≤—П—В –Є—А—А–µ–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Љ–Є—А–Њ–Љ –Є —В–∞–Ї–Є–Љ–Є –ґ–µ –µ–≥–Њ –Њ–±–Є—В–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є. –®–Є–Ї–∞—А–љ–Њ–µ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є–µ —Б–µ–±—П —Б —П–±–ї–Њ–Ї–Њ–Љ-–≥—А—Г—И–µ–є –љ–∞ —В—Г—А–љ–Є–Ї–µ. –Ч–і–Њ—А–Њ–≤–Њ!
–Ф–Њ–Љ –њ—А–µ—Б—В–∞—А–µ–ї—Л—Е
–Ь—Л –≤—Б–µ –≤ –њ—Г—Б—В—Л–љ–µ. –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ—Л–є –∞–±–Ј–∞—Ж –њ–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞: –Ї–∞–Ї —В—Г—В –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –≤ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–Њ–Љ –њ–ї–∞–љ–µ? –Є –і–∞–ї–µ–µ… «–Ш–љ—В–µ—А–љ–µ—В –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–≤–∞—В, –Ј–∞—А–њ–ї–∞—В–∞ –Љ–∞–ї–Њ–≤–∞—В–∞, –µ–≤—А–µ–Є –Ї—А—Г–≥–Њ–Љ, –∞ —В–∞–Ї –љ–Є—З–µ–≥–Њ, –ґ–Є—В—М –Љ–Њ–ґ–љ–Њ»… –Ш –і–∞–ї–µ–µ –≤—Б–µ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤–Њ.
–І–∞—Б—В—М 3. –Э–Є–Ї—Г–і–∞–ї–Є
–Ь—Н–є
–Э–∞—З–∞–ї–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ–Њ–µ. –°—А–∞–Ј—Г –≥–µ–љ–Є–∞–ї—М–љ–Њ —Б—Е–≤–∞—З–µ–љ–∞ –Є–љ—В–Њ–љ–∞—Ж–Є—П –Њ—В «–њ–Њ—И–ї–Є –љ–∞ —Е—А–µ–љ, –і–µ—В–Є» –Є –і–∞–ї–µ–µ «–Љ–ї—П—В—М, –Ј–∞—З–µ–Љ –ґ–µ —П –ґ–µ–љ–Є–ї—Б—П» –Є –і–Њ «–љ–∞–Љ –љ–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–є—В–Є –≤ –ї–µ—Б… –Є —В–∞–Љ –Ј–∞–Љ–µ—А–Ј–љ—Г—В—М… –љ–∞—И–∞ –ї—О–±–Њ–≤—М –Є–Љ–µ–ї–∞ —Е–Њ—В—М –Ї–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ —И–∞–љ—Б—Л —Б—В–∞—В—М –≤–µ—З–љ–Њ–є», –Є –У–∞—Г—Д, –Є –Ј–∞–≤–µ—А—И–∞—О—Й–µ–µ —З–µ—В–≤–µ—А–Њ—Б—В–Є—И–Є–µ –Њ—З–µ–љ—М –≤–∞–ґ–љ–Њ. –Ґ–Њ, —З—В–Њ –љ—Г–ґ–љ–Њ!!!
–Ы–µ—В–љ–Є–µ –і–љ–Є
–≠—В–Њ –љ–Њ–≤–µ–ї–ї–∞ –Њ—З–µ–љ—М –≤–∞–ґ–љ–∞ –і–ї—П —А–Њ–Љ–∞–љ–∞. –Ч–і–µ—Б—М –Љ–µ—З—В—Л, –Є–ї–ї—О–Ј–Є–Є –Є —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М, –Ї–∞–Ї –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤ (–Ч—П–±–Ї–Њ, –Ь—Н–є, –°–∞—Ж—Г–Ї–Є), —В–∞–Ї –Є –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–∞ —Б–Љ–µ—Й–∞—О—В—Б—П, –њ–µ—А–µ–њ–ї–µ—В–∞—О—В—Б—П –Є –Њ–±—К—П—Б–љ—П—О—В –Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є. –°–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –Ї–∞–Ї –Є –≤–Њ –≤—Б–µ–Љ —А–Њ–Љ–∞–љ–µ, –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞-—В–Њ –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –Ю–Ф–Э–Р, –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П, –Ґ–Т–Ю–ѓ, –љ–Њ –Њ–љ–∞ –≤–љ—Г—В—А–Є –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –Є–Ј —В–µ—Е, —Б –Ї–µ–Љ –±—Л–ї, –ґ–Є–ї, —Е–Њ—В–µ–ї –Є –љ–µ —Е–Њ—В–µ–ї –ґ–Є—В—М. –Ь—Н–є — —Н—В–Њ –°–∞—Ж—Г–Ї–Є, –љ–Њ –љ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ, –°–∞—Ж—Г–Ї–Є — —Н—В–Њ –Ь—Н–є, –љ–Њ –љ–µ –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞. –Ю–љ–∞ –Є —В–∞, –Є –љ–µ —В–∞. –Р —В–∞ –Є–і–µ–∞–ї—М–љ–∞—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Ј–∞—В–∞–Є–ї–∞—Б—М —Г –љ–Є—Е –≤–љ—Г—В—А–Є, –љ–∞—А—Г–ґ—Г –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В—М –љ–µ —Е–Њ—З–µ—В. –°–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –≠–Ґ–Ю –њ—А–Њ—З–Є—В—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –і–ї—П –Љ–µ–љ—П –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —Н—В–Њ–є –љ–Њ–≤–µ–ї–ї–µ, –∞ –Є –≤ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л—Е.
–У—Г–∞–љ–і —Г–љ
–Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ–Њ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ, –Є—А–Њ–љ–Є—З–љ–Њ, —В–Њ—З–љ–Њ. –Я–µ—А–µ—Е–Њ–і—Л –Ї —В–Њ–Љ—Г, –Ї—В–Њ –≤–Є–љ–Њ–≤–∞—В, –њ–Њ—В—А—П—Б–љ—Л — «–љ–µ —Г—З–∞—В –љ–Є —Е–µ—А–∞», «–∞ —П —Б—З–Є—В–∞—О, —З—В–Њ –µ–≤—А–µ–Є –≤–Є–љ–Њ–≤–љ—Л», «–і–∞, —Б–Њ–±–Њ–ї–µ–Ј–љ—Г—О».
–Ґ–∞–љ–≥–Њ —Б –Љ–µ–і–≤–µ–і–µ–Љ
–Ш —Г –Ч—П–±–Ї–Њ —Б –Љ–µ–і–≤–µ–і–µ–Љ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–љ—Л–є –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М –≤—А–µ–Љ—П –Є –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ, –Ї–∞–Ї –≤ —В–∞–љ—Ж–µ, –Љ—Л—Б–ї–Є, –њ–µ—А–µ—Б–µ–Ї–∞—О—Й–Є–µ —Б–ї–Њ–≤–∞—А–Є, –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–∞—В–Є–≤–љ—Л–µ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Л –Њ—З–µ–љ—М –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л. –Ь–Њ—Е–љ–∞—В–∞—П –Љ–Њ—А–і–∞, –њ–ї—О—И–µ–≤–∞—П –Ф–ґ–Њ–Ї–Њ–љ–і–∞ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї—П—О—В. –Ш –≤–µ—Б—М —Н—В–Њ—В –Љ–µ–і–≤–µ–і—М, –Є –≤–µ—Б—М –Ч—П–±–Ї–Њ, –Є —З—Г–ґ–Є–µ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л –≤ –Ї–љ–Є–ґ–љ–Њ–Љ –Љ–∞–≥–∞–Ј–Є–љ–µ —Б–Ї–≤–Њ–Ј—П—В –Њ–і–Є–љ–Њ—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –Є —З–Є—В–∞—В–µ–ї—О (–Љ–љ–µ) —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –Ј—П–±–Ї–Њ, –∞ –Њ—В –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–љ–µ–≥–∞ –Ј—П–±—З–µ –≤–і–≤–Њ–є–љ–µ.
–Ю–≥–љ–Є–≤–Њ
–Я—А–Њ—И–ї–Њ–µ –љ–µ —В–µ—А—П–µ—В—Б—П, –Њ–љ–Њ «–≤—Б–µ –±–Њ–ї–µ–µ –µ—Б—В—М». –Ъ—Б—В–∞—В–Є, —Н—В–∞ –Љ—Л—Б–ї—М –њ—А–Њ—З–Є—В—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –љ–Њ–≤–µ–ї–ї–∞—Е, –і–∞–ґ–µ –µ—Б–ї–Є –љ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –≤—Б–ї—Г—Е. –Ю—З–µ–љ—М –Ј–і–Њ—А–Њ–≤–Њ —Б–≤–µ—А—В—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ –Є –Ї–Њ–љ—Ж–µ–љ—В—А–Є—А—Г–µ—В—Б—П –≤ –Њ–і–љ–Њ–є —В–Њ—З–Ї–µ, –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —Д—А–∞–Ј–µ –Њ —Б–Њ–ї–і–∞—В–µ «–є—И–Њ–≤ –Ј –Љ–Њ—Б–Ї–∞–ї—Ц–≤ –і–Њ –љ–µ–љ—М–Ї–Є, —А—Ц–і–љ–Њ—Ч –љ–µ–љ—М–Ї–Є, –љ–∞—И–Њ—Ч –Ґ–Њ–Ї–Њ—А–Њ–і–Ј–∞–≤–Є, –љ–∞ —Б–ї–∞–≤–µ—В–љ–Є–є –Ъ–∞–ї—М–Љ—Ц—О—Б».
–І–∞—Б—В—М 4. –Ь–ї–∞–і–µ–љ–µ—Ж –њ—Л–ї–Ї–Є–є –Є –ґ–Є–≤–Њ–є
–Я—А–Є—Е–Њ–і –≤ —Б–µ–±—П
–Ч–і–Њ—А–Њ–≤–Њ. –Ч–і–Њ—А–Њ–≤–Њ –Є –≥–∞—А–Љ–Њ–љ–Є—З–љ–Њ –Њ—В –љ–∞—З–∞–ї–∞ –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞. –І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –њ—А–Є—И–µ–ї –≤ —Б–µ–±—П, –Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї—Б—П, –њ–Њ–љ—П–ї, —З—В–Њ –њ—А–Њ—Б–њ–∞–ї –≤—Б—О —Б–≤–Њ—О –ґ–Є–Ј–љ—М: «—В–µ–ї–Њ –Ї–∞–Ї–Є–Љ-—В–Њ –љ–µ–≤–µ–і–Њ–Љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –ґ–Є–ї–Њ –±–µ–Ј —Г—З–∞—Б—В–Є—П —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П». –Ю—З–µ–љ—М –Љ–љ–µ –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ. –Т –Љ–Њ–µ–є –љ–µ–і–Њ–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–є –њ—А–Њ–Ј–µ —Н—В–∞ –Љ—Л—Б–ї—М —В–Њ–ґ–µ –≥—Г–ї—П–µ—В. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –∞–±–Ј–∞—Ж –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–µ–љ.
–°—Г—А—З–Є–љ—Л
–У–µ–љ–Є–∞–ї—М–љ–Њ. –Э–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ —З—В–Њ-–ї–Є–±–Њ —Ж–Є—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М. –Т—Б–µ —В–∞–Љ, –≥–і–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М. –Э–Њ –≤—Б–µ –ґ–µ –Њ–і–љ—Г —Д—А–∞–Ј—Г, –Ї–∞–Ї –Ј–љ–∞—З–Є–Љ—Г—О, –њ–Њ–≤—В–Њ—А—О: «–Я–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї —П –љ–∞ —Б–≤–Њ—О —В–µ–љ—М –Є –≤–Є–ґ—Г, —З—В–Њ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–∞—П –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Ї–∞—А—В–Є–љ–∞ –Љ–Є—А–∞ –і–Њ–ї–≥–Њ –љ–µ –њ—А–Њ—В—П–љ–µ—В», —Е–Њ—В—П –±–µ–Ј –Ї–Њ–љ—В–µ–Ї—Б—В–∞ –Є –Њ–љ–∞ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В.
–Ф–µ–≤–Њ—З–Ї–∞
–Ю—З–µ–љ—М —Е–Њ—А–Њ—И–∞—П «–і–µ–≤–Њ—З–Ї–∞», –Њ—З–µ–љ—М –≤—Б–µ —В—А–Њ–≥–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є –Є—А–Њ–љ–Є—З–љ–Њ. –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ —В—Л –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—И—М: —Н—В–Є —Б—Г–Ї–Є —Г–Ј–Ї–Њ–≥–ї–∞–Ј—Л–µ –Є–≥—А—Г—И–Ї–Є –і–µ–ї–∞—В—М –љ–µ —Г–Љ–µ—О—В, —П –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї–∞, –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ, —З—В–Њ–±—Л –С–Њ–≥ –љ–µ –±—Л–ї –Ї–Є—В–∞–є—Ж–µ–Љ, –∞ —В–Њ –≤–і—А—Г–≥…
–Ь–Њ–ї–Њ–Ї–Њ
–Ґ–Њ–ґ–µ –Њ—З–µ–љ—М —Е–Њ—А–Њ—И–Њ. –≠—В–Є —Б—Г—А–Ї–Є –Є –Љ–µ–і–≤–µ–і–Є —З—Г–і–µ—Б–љ—Л–µ, –Њ–±—А–∞–Ј—Л –ґ–Є–≤—Л—Е –Ї—Г–Ї–Њ–ї, –Њ–ґ–Є–≤–ї—П—О—Й–Є—Е –њ–Њ–ї—Г–Љ–µ—А—В–≤—Л—Е –ї—О–і–µ–є. –≠—В–Њ –њ–Њ—В—А—П—Б–∞–µ—В. –Ю–Ј–і–Њ—А–Њ–≤–Є—В—М –ї—О–±–Њ–≤—М—О –њ—Б–Є—Е–Є–Ї—Г — —Е–Њ—А–Њ—И–Њ. –Р–±–Ј–∞—Ж —Б —В–µ–ї–µ–≤–Є–Ј–Њ—А–Њ–Љ «–Љ–µ—А—В–≤—Л–Љ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є —Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є—П –†–∞–і—Л» –Є —В. –і. — –Ј–і–Њ—А–Њ–≤–Њ. –Э–Њ —В—Л –ґ–µ —Б–∞–Љ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—И—М, —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Њ –љ–Њ–≤–µ–ї–ї–µ –≤—Б–µ –љ–µ—А–µ–∞–ї—М–љ–Њ, –Ї–∞–Ї –Њ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є, –∞ –Њ–љ–Є —Г —В–µ–±—П –њ–Њ—Н—В–Є—З–љ—Л, –±–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ.
–І–∞—Б—В—М 5. –Ш–і–µ–љ—В–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є—П –Ї—Г–Ї–Њ–ї
–Ы–µ–љ –Є –Ї–Њ–љ–Њ–њ–ї—П
–°–∞–Љ–∞—П –≤–∞–ґ–љ–∞—П –Є –Ј–љ–∞—З–Є–Љ–∞—П –і–ї—П —А–Њ–Љ–∞–љ–∞, –і–ї—П —В–µ–±—П, –і–ї—П –Љ–µ–љ—П –Љ—Л—Б–ї—М. «–Т–Њ–≤–Ї–∞ –±—Л–ї –Ї–∞–Ї –±—Л –њ—А–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –≤—Б–µ—Е –Љ–Њ–Є—Е –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–Є—Е –і—А—Г–Ј–µ–є: —З–µ–Љ –≤–∞–ґ–љ–µ–µ –±—Л–ї–Њ —В–Њ, —З—В–Њ —П –Є–Љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї, —В–µ–Љ –Љ–µ–љ—М—И–µ –Њ–љ–Є –њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–Є –Є –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї–Є —Н—В–Њ».
–Ш—Б—Е–Њ–і
–У–µ–љ–Є–∞–ї—М–љ–Њ. –Ю –Ї—Г–Ї–ї–∞—Е —П –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М —А–∞–љ–µ–µ, –∞ –Ј–і–µ—Б—М –≤—Б–µ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є–ї–Њ—Б—М –Є –Ј–∞–Ј–≤—Г—З–∞–ї–Њ –љ–∞ –±–Њ–ї–µ–µ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є –љ–Њ—В–µ. «–Т–Њ–Њ–±—Й–µ, –ґ–Є–Ј–љ—М –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–∞–Ї–∞—П. –Ъ—В–Њ-—В–Њ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –≤–Ј—П—В—М –љ–∞ —Б–µ–±—П —В—А—Г–і —Г–Љ–µ—А–µ—В—М –њ–µ—А–≤—Л–Љ». –Ф–∞ –Ј–і–µ—Б—М –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Ж–Є—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –≤—Б–µ —Ж–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ —З–µ—А–љ—Л–µ –Є –±–µ–ї—Л–µ –Ї–ї–∞–≤–Є—И–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –њ—А–Њ —Б–Њ–ї–і–∞—В–∞-–Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є—В–µ–ї—П. «–Т—Б–µ, –Ч—П–±–Ї–Њ, —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є—В–µ–ї—М, —Б–≤–Њ–±–Њ–і–µ–љ». –Т–Њ—В –Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В —З–Є—В–∞—В–µ–ї—М –Њ—В–≤–µ—В, –і–ї—П —З–µ–≥–Њ –љ—Г–ґ–µ–љ —Б–Њ–ї–і–∞—В-–Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є—В–µ–ї—М. –Т–Њ—В –Є –±–ї–Є–Ј–Є—В—Б—П —А–∞–Ј–≤—П–Ј–Ї–∞ —А–Њ–Љ–∞–љ–∞. –Ш –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є — –љ–µ –њ–µ—А–µ–њ—Г—В–∞—В—М —Б–њ–Є—Б–Ї–∞ —Б –≥—А–µ—Е–∞–Љ–Є —Б–Њ —Б–њ–Є—Б–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ—Г–ґ–љ–Њ –Ї—Г–њ–Є—В—М.
–Ц–∞—В–≤–∞
–Т –Њ–±—Й–µ–Љ, –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є–ї —В—Л —Б–≤–Њ–є —А–Њ–Љ–∞–љ –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ. –Т –Њ–і–љ–Њ–Љ —В–µ–Љ–њ–Њ—А–Є—В–Љ–µ –і–≤–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –љ–Њ–≤–µ–ї–ї—Л, –љ–∞ –Њ—З–µ–љ—М –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–Љ —Г—А–Њ–≤–љ–µ, –љ–µ —Б–≤–∞–ї–Є–ї—Б—П –Њ—В —Г—Б—В–∞–ї–Њ—Б—В–Є, –∞ –њ–Њ–і–љ—П–ї—Б—П. –Ь–Њ–ї–Њ–і–µ—Ж! –° –≥–Њ—А—П—Й–Є–Љ –і–Њ–Љ–Њ–Љ — –љ–µ—В —Б–ї–Њ–≤. –Ґ–µ, –Ї—В–Њ –ґ–Є–ї–Є –і–Њ –Є —В–µ, –Ї—В–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ — –Т–Ь–Х–°–Ґ–Х, –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –љ–µ—В, –µ—Б—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –µ–≥–Њ –Њ—В—Б–≤–µ—В –≤ –Њ–≥–љ–µ. –Я–Њ—В–µ—А—П –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –љ–µ—В –Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –ґ–∞–ї—М. –Э–µ –≥–Њ—А–Є—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –£–≥–Њ–і–љ–Є–Ї. «–Ъ—А—Г–њ–љ—Л–µ –Ї–∞–њ–ї–Є –Љ–Є—А–∞ —Б—В–µ–Ї–∞—О—В –≤–љ–Є–Ј –њ–Њ –ї–Є–Ї—Г». –Я—А–Њ—Й–∞–љ–Є–µ —Б —З–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–µ –њ—А–Њ—Й–∞–µ—В—Б—П.
–° —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ —З–Є—В–∞—В–µ–ї—М –°. –Ч–∞–≥–Њ—В–Њ–≤–∞
–Я—А–Є–≤–µ—В! –Ф–Њ—З–Є—В—Л–≤–∞—О —В–≤–Њ—О –Ї–љ–Є–≥—Г. –Т–Њ—В, —Г–ґ–µ –љ–µ–Љ–љ–Њ–ґ–Ї–Њ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї–∞.
—В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Ї–љ–Є–≥–∞ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ –†–∞—Д–µ–µ–љ–Ї–Њ. –Ф–Њ–љ–µ—Ж–Ї. —А–Њ–Љ–∞–љ –≤ –љ–Њ–≤–µ–ї–ї–∞—Е. —Б—В—А–∞–љ–љ—Л–є –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –≥–µ—А–Њ–є. –Є –ґ–Є–≤–µ—В –≤ —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–є –Љ–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є. –£–Ї—А–∞–Є–љ–∞ —Г –љ–µ–≥–Њ — –µ—Й–µ –Є –Ј–∞–≥–∞–і–Њ—З–љ–∞—П —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–∞—П –Ґ–Њ—А–Њ–і–Ј–∞–≤–∞. –∞ –Љ–Є–ї—Л–µ –µ–≥–Њ —Б–µ—А–і—Ж—Г –і–µ–≤–Њ—З–Ї–Є (—Б–Ї–≤–Њ–Ј–љ–∞—П –ї–Є–љ–Є—П –ї—О–±–≤–Є) — –Ь—Н–є –Є –°–∞—Ж—Г–Ї–Є. –Є –і—А—Г–≥ — –Ґ–Њ—В–Њ—А–Њ. –Є–ї–Є –Њ–љ —Б–∞–Љ — —Н—В–Њ –Ґ–Њ—В–Њ—А–Њ? –Є –Ј–∞—З–µ–Љ –њ–Њ—Б—А–µ–і–Є —В–µ–Ї—Б—В–∞ –≤–і—А—Г–≥ —Б—Б—Л–ї–Ї–Є –љ–∞ –ї–∞—В–Є–љ—Б–Ї–Є–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П –і–µ—А–µ–≤—М–µ–≤ –Є –Ї—Г—Б—В–Њ–≤? –Є —А–µ—Ж–µ–њ—В —П–±–ї–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –њ–Є—А–Њ–≥–∞ –љ–∞ –Я–µ—Б–∞—Е? –і–Њ–≥–∞–і—Л–≤–∞—О—Б—М: –Њ–±–Љ–µ—З—В–∞–≤—И–Є–є—Б—П –Љ–µ—З—В–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї. —В–µ–њ–µ—А—М —Г–ґ–µ –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л–є. –Є–Ј —В–µ—Е, —З—В–Њ –ґ–Є–≤—Г—В –љ–µ –Ј–і–µ—Б—М –Є —Б–µ–є—З–∞—Б, –∞ —В–∞–Љ –Є —В–Њ–≥–і–∞. –Є —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞—О—В –љ–∞ —А–∞–Ј–љ—Л–µ –≥–Њ–ї–Њ—Б–∞ —Б–∞–Љ–Є —Б —Б–Њ–±–Њ–є. –Ї—Г–і–∞ –ґ–µ —В–∞–Ї–Њ–Љ—Г –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї—Г –і–µ–≤–∞—В—М—Б—П? –∞ –≤ —А–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А—Л. –∞ —В–∞–Љ —В–µ–Ї—Б—В—Л –њ–ї–µ—В—Г—В —Б–≤–Њ—О —Б–µ—В–Ї—Г. –Є –Њ–Ї—А—Г–ґ–Є–ї–Є –µ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞—А–Є —Б–Њ –≤—Б–µ—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ. –≤–Њ—В –µ–≥–Њ –Є –Њ–Ї—А—Г–ґ–Є–ї–Њ, –Є –Ј–∞–≤–µ—А—В–µ–ї–Њ. –Є –њ–∞–Љ—П—В—М –і–µ—В—Б—В–≤–∞ —В—Г—В –ґ–µ. –ґ–Є–≤–µ—В –≤ –Ї—А—Г–≥–Њ–≤–Њ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Є –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–µ, –Ї–∞–Ї –≤ –Ї–∞–Љ—Л—И–Њ–≤–Њ–Љ –Њ–Ј–µ—А—Ж–µ —Б —Г–ї–Є—В–Ї–∞–Љ–Є –Є –Љ–∞—А–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є, –Ї–∞–Ї –Њ–љ –≤—Л—А–∞–ґ–∞–µ—В—Б—П, —А–∞–Ї–∞–Љ–Є. –Њ—В –Љ–Є—А–∞ –њ—А–Є—А–Њ–і—Л –Є —Б–µ–ї—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —Б–Ї–∞–ґ–µ–Љ —В–∞–Ї, –і–µ—В—Б—В–≤–∞, —Б–±–µ–≥–∞–µ—В –≤ —Б–≤–Њ—О –ѓ–њ–Њ–љ–Є—О. –Њ—В –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л — –љ–∞ —А—Л–±–∞–ї–Ї—Г. –Є –љ–µ—В –љ–∞—И–µ–Љ—Г –≥–µ—А–Њ—О –Љ–µ—Б—В–∞ –љ–∞ –≤—Б–µ–Љ –Ј—Л–±–Ї–Њ–Љ —Б–≤–µ—В–µ. –≤–Њ—В —Б–Њ–±—А–∞–ї—Б—П –љ–∞—И —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—З–Є–Ї (—Д–∞–Љ–Є–ї–Є—П –µ–≥–Њ –Ч—П–±–Ї–Њ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –Ј—П–±–ї–Є–Ї –Њ–љ –њ–Њ —Б–∞–Љ–Њ–Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є—О, –њ–µ–≤—З–Є–Ї —З–Є—А–Є–Ї–∞—О—Й–Є–є –Є –±–µ–Ј–Ј–∞—Й–Є—В–љ—Л–є. –Є –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –Ј–ѓ–±–Ї–Њ –µ–Љ—Г, –≥–і–µ –±—Л –љ–Є –±—Л–ї — –≤–µ–Ј–і–µ –Ј—П–±–Ї–Њ) –љ–∞ —А—Л–±–∞–ї–Ї—Г («–≤—Л–≥–ї—П–і–µ—В—М –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –љ–∞–і–Њ —Б—Г—А–Њ–≤–Њ, –љ–Њ –љ–µ–ї–µ–њ–Њ»). «–Э–∞ –Ї—Г–≤—И–Є–љ–Ї—Г –±—Л —Б–µ—Б—В—М –Є –њ–Њ–њ–ї—Л—В—М –Ї –±–µ—А–µ–≥–∞–Љ —О–љ–Њ—Б—В–Є. –Ы–Њ–і–Ї–∞ –љ–∞ —А–µ—З–љ–Њ–є –Љ–µ–ї–Є —Б–Ї–Њ—А–Њ –і–Њ–≥–љ–Є–µ—В —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ. –Т—Л–є—В–Є –љ–∞ —Н—В–Є –±–µ—А–µ–≥–∞, –љ–∞–є—В–Є —Б–µ–±—П –Є –љ–∞–±–Є—В—М —Б–µ–±–µ –Љ–Њ—А–і—Г. –Ь–Њ–ї—З–∞ —В–∞–Ї –љ–∞–±–Є—В—М, —Б–µ—Б—В—М –љ–∞ –Ї—Г–≤—И–Є–љ–Ї—Г –Є –і–Њ–Љ–Њ–є. –Ш —В–∞–Ї –Ї–∞–ґ–і—Л–є –і–µ–љ—М –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –і–µ—Б—П—В–Є –ї–µ—В. –У–ї—П–і–Є—И—М –±—Л, –љ–µ —Б—В–Њ—П–ї –±—Л —В–µ–њ–µ—А—М —В—Г—В –≤ –±–Њ–ї–Њ—В–љ—Л—Е —Б–∞–њ–Њ–≥–∞—Е –њ–Њ –Ї–Њ–ї–µ–љ–Њ –≤ —Г–ї–Є—В–Ї–∞—Е. –Э—Г, –∞ –≥–і–µ –±—Л —В—Л —Б—В–Њ—П–ї? –Э—Г –≥–і–µ, —Б–Ї–∞–ґ–Є, –≥–і–µ? –У–і–µ –±—Л —В—Л —Б—В–Њ—П–ї? –Ъ–∞–Ї–∞—П —А–∞–Ј–љ–Є—Ж–∞, –љ–Њ –љ–µ —В—Г—В. –Р —П —В–µ–±–µ —Б–Ї–∞–ґ—Г, –≥–і–µ –±—Л —Б—В–Њ—П–ї. –Ш –≥–і–µ, —В—Л –Ј–љ–∞–µ—И—М? –Р –≤–Њ—В —В—Г—В –±—Л –Є —Б—В–Њ—П–ї. –Ґ—Г—В? –ѓ —В–µ–±–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—О. –Ґ–Њ—З–љ–Њ –≤–Њ—В –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ —В—Л –Є —Б—В–Њ—П–ї. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –±—Л –µ—Й–µ —Е—Г–ґ–µ –Ї–ї–µ–≤–∞–ї–Њ». –Љ–љ–µ —Н—В–Њ –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ. –њ–Њ–Ї–∞ –≤—Б–µ. –љ.
–Э–∞—В–∞–ї—М—П –•–Р–Ґ–Ъ–Ш–Э–Р –Ф–Ю–Э–Х–¶–Ъ
|
|
–Я—А–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ –Є–ї–Є —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ–Љ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ —Б—Б—Л–ї–Ї–∞ –љ–∞
–Ш–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ-—Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –ґ—Г—А–љ–∞–ї "–Ф–Є–Ї–Њ–µ –њ–Њ–ї–µ. –Ф–Њ–љ–µ—Ж–Ї–Є–є –њ—А–Њ–µ–Ї—В"
–Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–∞. Copyright © 2005 - 2006 –Ф–Є–Ї–Њ–µ –њ–Њ–ї–µ Development © 2005 Programilla.com |
–£–Ї—А–∞–Є–љ–∞ –Ф–Њ–љ–µ—Ж–Ї 83096 –њ—А-–Ї—В –Ь–∞—В—А–Њ—Б–Њ–≤–∞ 25/12 –†–µ–і–∞–Ї—Ж–Є—П –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞ ¬Ђ–Ф–Є–Ї–Њ–µ –њ–Њ–ї–µ¬ї 8(062)385-49-87 –У–ї–∞–≤–љ—Л–є —А–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А –Ъ–Њ—А–∞–±–ї–µ–≤ –Р.–Р. Administration, Moderation –Ф–µ–≥—В—П—А—З—Г–Ї –°.–Т. Only for Administration |